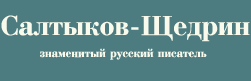Губернские очерки
"...В сатире действительность как некое несовершенство противополагается идеалу, как высшей реальности".
Фр. Шиллер
Слова, взятые в заглавие статьи, принадлежат Пушкину. Они сказаны в "Евгении Онегине" о Фонвизине, одном из зачинателей русской сатиры. Михаил Евграфович Салтыков, писавший под псевдонимом Щедрина (1826 -- 1889), -- ее вершина. И у нас есть все основания переадресовать ему пушкинскую строку, хотя творчество автора "Истории одного города" не ограничивалось только сатирой.
Каждый из великих писателей любой национальной литературы занимает в ней свое особое, только ему принадлежащее место. Главное своеобразие суровой фигуры Щедрина в русской литературе заключается в том, что он был и остается в ней крупнейшим писателем социальной критики и обличения. Островский называл Щедрина "пророком, vates'ом римским" и ощущал в нем "страшную поэтическую силу". "Это писатель ничуть или мало уступающий Льву Толстому, -- утверждал А. И. Эртель, -- а в энергичной, страстной борьбе со злом, в той силе анализа, с которой он умел разбираться в разных общественных течениях, может быть, даже превосходящий Толстого". "Господа! Вы чествуете великого диагноста в медицине, -- говорил знаменитый физиолог И. М. Сеченов на юбилейном обеде в честь С. П. Боткина, -- но не забудьте, что в нашей среде находится теперь другой, не менее великий диагност -- это всеми уважаемый диагност наших общественных зол и недугов, Михаил Евграфович Салтыков". А один из представителей официальной России, М. П. Соловьев (был начальником Управления по делам печати), так определял силу щедринской критики и обличения: "С появлением каждой новой вещи Щедрина валился целый угол старой жизни. Кто помнит впечатление от его "Помпадуров и помпадурш", его "глуповцев" и его "Балалайкина", знает это. Явление, за которое он брался, не могло выжить после его удара. Оно становилось смешно и позорно. Никто не мог отнестись к нему с уважением. И ему оставалось только умереть".
Художник редкой самобытности, Щедрин вместе с тем один из наиболее показательных представителей, а также и созидателей основополагающих традиций всей русской классической литературы -- ее гуманизма, ее непримиримости к миру зла и насилия, ее страстных исканий социальной справедливости, ее тоскующей любви к Родине и вместе с тем ее духа борьбы за общечеловеческие идеалы гармоничного, до конца согласованного общества. "Это огромный писатель, гораздо более поучительный и ценный, чем о нем говорят", -- утверждал Горький. Слова эти давно сказанные, сохраняют свое значение и сегодня.
Что же такое Щедрин как явление в духовной истории нашей страны?
Это прежде всего великий художественный суд писателя -- демократа и социалиста (утопического социалиста) над всем "порядком вещей" современной ему действительности -- самодержавно-помещичьей и буржуазной России, а также капиталистического Запада. Это, далее, могучая проповедь передовых общественных идеалов, зажигавшая сердца, указывавшая цели жизни, исходившая от одного из сильнейших деятелей русской мысли, горячо и страстно преданного своей стране и народу, человека, духовно бесстрашного и ко всякой лжи нетерпимого. Это, наконец, громадный и единственный в своей необыкновенности художественный мир образов и картин русской жизни, созданный с исключительным размахом творческого воображения, до дна достающей проницательности, с "пророческим" провидчеством, способностью угадывать в текущей современности "тень грядущих событий".
Высокая сатира, а именно ей, главнейшее (но не исключительно), принадлежит -- и это в масштабах мировой литературы -- сугубо-критическое искусство Щедрина, рождается в эпохи крупнейших исторических сломов и катаклизмов, в периоды коренных смен идеологических ценностей и норм, общественно-политических институтов и бытовых обиходов. Кризис рабовладельческой демократии древних Афин вызвал к жизни сатиру "отца комедии" Аристофана. В исторические кануны упадка Римской империи взвился бич Ювеналовой сатиры. Эпохе Возрождения, сменившей столетия Средневековья, сопутствовала исполненная свободомыслия, гуманизма и универсализма сатира Рабле и Эразма Роттердамского, Боккаччо и Сервантеса. Эпоху Просвещения сопровождала рационалистическая и скептическая сатира Вольтера и Свифта.
Эпоха подготовки революции в нашей стране создала одну из высших ценностей мировой литературы XIX века -- русский критический реализм, а в нем самую критическую его силу -- Щедрина. Эта сила подняла искусство обличения, высокой сатиры на новую историческую ступень. Сатира Щедрина пошла дальше, захватила глубже сатиры Рабле и Свифта. Их злой смех подрывал основы феодального общества и объективно служил поднимающейся буржуазии как передовому в то время классу. Щедринская сатира подрывала и подрывает основы капиталистического частнособственнического общества периода его полной зрелости и начавшегося исторического упадка. Отсюда ее международное значение, сохраняющееся и в наше время.
Щедрин, или -- правильнее здесь сказать -- Салтыков, родился через месяц после восстания декабристов; умер в год, когда молодой Ленин начал изучать "Капитал" Маркса и уже вел революционную работу. Между этими датами заключена эпоха, имеющая исключительно важное значение в мировой и русской истории.
Для России это была эпоха ликвидации, хотя и далеко не полной, исторически отжившего крепостного строя и созданных на его основе идеологий, эпоха вовлечения неизмеримо огромной и неизмеримо же отсталой страны в орбиту капиталистического развития.
Россия была последней великой страной Европы, захваченной промышленной революцией. И она совершалась у нас во многих отношениях с невиданной нигде больше быстротой, сопровождаясь вследствие этого такими грандиозными социально-экономическими потрясениями, такими страданиями народных, крестьянских в первую очередь масс и такими глубокими сдвигами в общественной и личной психологии, которых не знала уже в XIX веке, при всем своем драматизме, история стран Запада.
Вот эту картину, по определению Энгельса, "глубокой социальной революции", взламывавшей все устройство и всю психологию старой русской жизни, и писал Щедрин. Писал не как бесстрастный летописец, "добру и злу внимая равнодушно", а как гениальный художник, страстно относящийся к действительности и пытающийся воздействовать на эту действительность, изменять ее в направлении своих идеалов.
Произведения Щедрина при всем их жанровом многообразии -- романы, хроники, повести, рассказы, очерки, пьесы -- сливаются в одно огромное художественное полотно. Оно изображает целое историческое время, подобно "Божественной комедии" Данте и "Человеческой комедии" Бальзака. Но изображает -- и в этом главная особенность Щедрина -- в могучих сгущениях темных сторон жизни, критикуемых и отрицаемых во имя всегда присутствующих, явно или скрыто, идеалов социальной справедливости и света. У Щедрина, отличительной чертой личности которого и главной мерой вещей был разум, а главным орудием борьбы с враждебным ему миром "меч мысли", созданное им обличительное полотно можно назвать "Глуповской комедией" или же, по определению самого писателя, трагедией жизни, находящейся "под игом безумия".
Отдавая всю свою творческую силу трудному искусству проведения положительных идеалов в отрицательной форме, Щедрин смотрел на литературу как на прямое общественное служение. Приверженцами этой идеи были и все другие великие писатели России. Но у Щедрина она получила, быть может, самое сильное выражение. Иногда, казалось, он приносил в жертву этой идее свой огромный художественный талант. Но сила и пафос его публицистического пера обычно не только не наносили ущерба художественности его произведений, но идейно углубляли и возвышали их. Органическое слияние художественного начала с публицистическим -- одна из характернейших особенностей творчества Щедрина. Так или иначе, но он писал всегда о коренных вопросах современности, и писал с глубочайшей страстностью. "Все великие писатели и мыслители, -- утверждал Щедрин, -- потому и были велики, что об основах говорили". И еще утверждал Щедрин: "Писатель, которого сердце не переболело всеми болями того общества, в котором он действует, едва ли может претендовать в литературе на значение выше посредственного и очень скоропреходящего". Щедрин приобрел бессмертие, и это потому, что сам он всегда писал о социальных основах жизни и глубоко переболел всеми общественными болями своего трудного времени. "Бывали минуты, когда пошехонская страна приводила меня в недоумение, -- заявлял Щедрин, -- но такой минуты, когда бы сердце мое перестало болеть по ней, я решительно не припомню...".
Эта социальная боль сердца возникла у Салтыкова необыкновенно рано, в детские годы. Прошли эти годы в родовой вотчине отца, столбового дворянина, в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии, в обстановке "повседневного ужаса" крепостного быта, классически описанного в "Пошехонской старине".
Черты суровости в характере Салтыкова, в его взглядах на мир образовались не без воздействия социально-отрицательных впечатлений начальных лет жизни. Но на почве этих же впечатлений возникли и противоборствующие силы. Появление первого ощущения социальной тревоги Салтыков относил впоследствии к тем дням деревенского детства -- ему шел тогда девятый год, -- когда перед его нравственным взором возник "человеческий образ там, где по силе общеустановившегося убеждения существовал только поруганный образ раба" -- крепостного человека. Столь необыкновенно раннее возникновение нравственного самосознания Салтыков оценивал впоследствии как "полный жизненный переворот", настаивая при этом, что момент этот имел "несомненное влияние" на весь склад ого позднейшего миросозерцания.
Условия детства Салтыкова содействовали зарождению в нем отчуждения от родного по крови помещичьего класса. Направление этого движения окрепло в годы пребывания Салтыкова сначала в Московском дворянском институте (1836 -- 1838), а потом в Царскосельском лицее (1838 -- 1844). Среди воспитанников последнего были еще живы традиции Пушкина. В русле этих традиций возникло "решительное влечение" Салтыкова к литературе и вольнолюбию. Он стал писать стихи и много читать. В особенности сильно воздействовали на него Гоголь, Герцен и "полное страсти слово Белинского". После окончания Лицея Салтыков, определенный на службу в Канцелярию Военного министерства, сближается с оппозиционно настроенными кружками столичной молодежи, в том числе с кружком Петрашевского. Здесь он проходит школу идей западноевропейского утопического социализма и русской демократической мысли, находившейся тогда на этапе стремительного движения к высокой гражданской зрелости.
На этом крутом подъеме идейной жизни передовых кругов русского общества конца 1840-х годов начинается писательский путь Салтыкова. И начинается прямым столкновением с самодержавной властью. Весной 1848 года Салтыков был арестован и выслан на службу в Вятку. Он был отправлен туда за обнаруженные в его первых двух повестях -- "Противоречия" и "Запутанное дело" -- "вредное направление и стремление к распространению революционных идей, потрясших уже всю Западную Европу". Это были слова, сказанные самим Николаем I, испуганным событиями Французской революции. Писателем "вредного направления" Салтыков остался для самодержавия во всех своих последующих произведениях, нещадно преследовавшихся цензурой.
Семь с половиной лет опальной жизни в одном из далеких тогда северо-восточных углов России оказались нелегким испытанием для юного Салтыкова. Но из Вятки, где он служил сначала в штате Губернского правления, потом чиновником особых поручений при губернаторе и, наконец, советником Губернского правления, он вынес огромный запас впечатлений от той глубинной русской жизни, которую нельзя было узнать в столичных кружках интеллигентной молодежи. Он вывез из Вятки и из своих служебных поездок по просторам семи губерний и жар негодования к бесправию, бедности и темноте всего социально-низового российского бытия. Свои наблюдения и чувства Салтыков, "всемилостивейше помилованный" после смерти Николая I новым царем, сразу же по возвращении в Петербург в самом начале 1856 г. стал претворять в художественные образы "Губернских очерков".
Русская жизнь последних лет крепостного строя отразилась в первой книге Щедрина с небывалой еще в литературе широтой охвата -- от приемной губернатора до крестьянской избы, от помещичьей усадьбы до раскольничьего скита и тюремного острога, -- и отразилась резко контрастно: обличительно к миру административно-чиновничьему и помещичье-господскому; с любовью и надеждой к миру народному, крестьянскому.
"Губернскими очерками", которые Чернышевский назвал "прекрасным литературным явлением" и отнес к числу "исторических фактов русской жизни", Щедрин начал свою "хронику" русской общественной жизни. "Историк современности", "летописец минуты", по собственным определениям, он вел отныне эту беспримерную "хронику" до конца своих дней. Весь громадный социально-психологический процесс русской истории XIX века, за десятилетия с 30-х до конца 80-х годов, воссоздан Щедриным во всей его широте и глубине, шаг за шагом, этап за этапом. Материалами для этой критической панорамы, создававшейся по горячим следам текущих дней и событий, во многом снабдила Щедрина, или правильнее сказать здесь Салтыкова, его многолетняя служба в провинции в уже названной Вятке (1848 -- 1855), а затем в Рязани и Твери в должности вице-губернатора (1858 -- 1862) и, наконец, в Туле, Пензе и еще раз в Рязани, в должности управляющего местными Казенными палатами (1865 -- 1868). По оценкам Некрасова, Тургенева, Толстого и многих других, никто из писателей того времени не знал так глубоко русскую провинциальную и народную жизнь, как знал ее Щедрин.
Крепостническая Русь изображена писателем во многих произведениях, но цельнее и ярче всего в упомянутой полуавтобиографической "Пошехонской старине" -- самой правдивой картине крепостного быта. Знаменитые "шестидесятые годы" -- годы крутого демократического подъема, кризиса режима и падения крепостного строя, годы исторического перелома, освещены в "Невинных рассказах" и "Сатирах в прозе". В эти книги входят и драгоценные обломки разрушенного цензурой цикла "Глупов и глуповцы" -- удивительного по страстности и глубине мысли памятника того драматического времени, когда в России складывалась и сложилась первая революционная ситуация (1859 -- 1861 гг.).
Неудача демократического натиска "шестидесятничества", победа, хотя и временная, "города Глупова" над "городами "Буяновым" и "Умновым" преломляются с трагической силой в "Истории одного города" -- одном из наиболее широкоохватных обличительных произведений отечественной литературы, с удивительным гражданственным бесстрашием захватывающим и сферу русской национальной "самокритики". Пореформенная смена крепостнических порядков буржуазно-капиталистическими, торжествующее шествие по стране "чумазого" изображены во всем многообразии и сложности этого процесса в ряде произведений, но наиболее широко и проблемно в "Благонамеренных речах" и "Убежище Монрепо". Новая демократическая волна конца 70-х годов отразилась в серии рассказов и очерков, посвященных драматическим судьбам народнической интеллигенции, -- "Больное место", "Чужую беду -- руками разведу" (по поводу тургеневского романа "Новь") и других. Тяжелейшая реакция "черных" 1880-х годов запечатлена в таких произведениях, как неистовая в своей ярости и вместе с тем исполненная сатирического блеска "Современная идиллия", "Письма к тетеньке", "Пошехонские рассказы".
Историк современности, Щедрин был вместе с тем крупнейшим художником прямого политического протеста. Он сыграл значительную роль в дискредитации монархического строя, в расшатывании царистских иллюзий в сознании и психологии русского общества. Глубоко и страстно ненавидя самодержавие, царскую бюрократию, весь аппарат царско-помещичьей власти, Щедрин напитал этой ненавистью большинство своих произведений, в том числе знаменитые сказания о "помпадурах", и особенно о "градоначальниках" из "Истории одного города". В этом шедевре сатирической литературы, поставленном Тургеневым рядом с творениями Ювенала и Свифта, Щедрин казнил самодержавие великой гражданской казнью: "Хватают и ловят, секут и порют, описывают и продают... Гул и треск проносится из одного конца города в другой, и над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит зловещее "Не потерплю!". Вот исполненные ожесточения слова, которыми Щедрин передает отношение царизма к народу -- отношение насилия и произвола, длившихся веками. Поистине писателем владел
Дух гнева, возмездия, кары
(Ив. Бунин).
Но не менее суров, хотя и не казнящ, а до боли горек суд Щедрина над обывателями химерического и вместе с тем до ужаса реального "города Глупова". В образах "глуповцев", нещадно ошеломляемых своими полуидиотичными, полумеханическими "градоначальниками", Щедрин подвергает осуждению не "свойства" русского народа, как это не раз утверждала враждебная писателю или непроницательная критика. Он осуждает и отвергает лишь те, по определению писателя, "наносные атомы" в психологии и поведении масс, которые мешали им освободиться из-под гнета "неразумных сил истории" и "обняться" с ее протестующими "гневными силами". Обличение пассивности занимает огромное место в творчестве Щедрина. Обличение это было глубоко прогрессивно. Оно возникло и действовало в магистральном русле исторической подготовки русской народной революции на том ее этапе, когда очередной задачей, "программой-минимумом", было преодолеть неподвижность и бессознательность угнетенных масс, разбудить их спящие силы, вывести их из векового застоя.
Критика политического строя и политического быта царской России неотделима у Щедрина от критики ее общественных основ и среды. Потребовалось бы немало места, чтобы только назвать все созданные писателем образы из сферы общественной жизни, идейной и политической борьбы, чтобы только перечислить все классы, сословия, социальные слои, группы и подгруппы в русской жизни прошлого века, присутствующие на страницах щедринских книг. Перефразируя известные слова Белинского о Пушкине, Михайловский назвал произведения Щедрина в их совокупности "критической энциклопедией русской жизни". И это, вероятно, наиболее точная и широкоохватная характеристика творчества писателя.
Щедрина нередко называют продолжателем и преемником Гоголя. В определенном историческом ракурсе это верно. Да и он сам смотрел на Гоголя как на своего учителя. Однако по характеру художественного восприятия и изображения действительности они сильно разнятся друг от друга. Можно сказать, что созданное Щедриным огромное "полотно" русской жизни, хотя и изобилующее сатирическими заострениями и гротесками, более реалистично, чем художественный мир героев "Ревизора" и "Мертвых душ", созданных воображением Гоголя. Важно подчеркнуть при этом, что щедринское "полотно" заполнено преимущественно не индивидуальными, а "групповыми портретами" целых классов, сословий и других социально-политических и должностных номенклатур. Главное внимание уделено трем социальным "китам", на которых "стояла" тогдашняя Россия, -- народным, крестьянским массам, бедствующим "иванушкам", правящему, но уже сходящему с исторической авансцены дворянству и идущему ему на смену новому "дирижирующему классу", молодой отечественной буржуазии.
Истинный демократ, чье сердце, по собственным его словам, "истекало кровью" при зрелище бед народных, Щедрин не страшился смело писать о всех темных пятнах, о всех противоречиях современной ему народной жизни. Щедрин -- художник обнаженных социальных противоречий. Главное противоречие: сила и бессилие народа, могучая потенциальная сила, но практическое бессилие на той ступени, в то время, когда исторически предопределенное освобождение масс еще не могло быть осуществимо. Эта тема проходит через все произведения Щедрина, хотя и в разных тональностях. В годы демократического подъема "шестидесятничества" в ней присутствуют и мажорные, оптимистические тоны; после срыва движения господствуют, все усиливаясь и омрачаясь, звучания драматические. Их могли снять лишь победившие или побеждавшие силы, направленные на радикальное переустройство существовавшего "порядка вещей". Но тогдашние силы революции, а также либеральной оппозиции с ее требованиями буржуазно-демократических реформ не внушали Щедрину надежд. Лишь в конце своего жизненного пути, во "Введении" к "Мелочам жизни", он, хотя и туманно предвосхитил, говоря словами Блока, "неслыханные перемены, невиданные мятежи" будущего.
Российское дворянство, помещичья среда нашли в Щедрине самого сурового бытописателя и критика. Дворянство нигде не показано у Щедрина в цветении своей культуры. У него это везде лишь принуждающая сила или же сила социально выдохшаяся, лишенная залогов будущего. Своим сугубо критическим "портретом" помещичьего класса Щедрин заполнил в литературе пробел, который оставили в изображении русского дворянства Тургенев и Толстой. С наибольшей художественной силой картина хозяйственного упадка и идейно-нравственного опустошения помещичье-усадебной жизни дана в "Господах Головлевых", одном из великих, но и самых мрачных украшений русской литературы. Однако знаменитый образ главного героя романа Иудушки далеко выходит за пределы породившей его национальной почвы, социальной среды и эпохи. Образ Иудушки -- образ социального отъединения, социальной пустоты жизни, одно из сильнейших в литературе воплощений этого зла.
Способность улавливать в потоке жизни новые социальные течения и типы в самый момент их зарождения дала Щедрину возможность стать первым в нашей литературе выдающимся изобразителем и критиком буржуазной России. Хотя в понимании писателя капиталистическое развитие страны было неотвратимой исторической закономерностью, воспринималось оно им отрицательно, преимущественно со стороны его разрушительных сил в сфере общественных идеалов и морали. "...Идет чумазый! -- почти с отчаянием восклицал Щедрин. -- Идет и на вопрос: что есть истина? твердо и неукоснительно ответит: распивочно и на вынос!" Наряду с реалистическими "портретами" новых "столпов" общества: Дерунова, Колупаева, Разуваева, классически запечатлевшими представителей первого поколения российского капитализма, -- Щедрин создает и другую портретную галерею, также ставшую классической. Она исполнена в иной, остросатирической манере и посвящена "деятелям" нарождавшейся на Руси буржуазной интеллигенции. С наибольшей обличительной силой созданы образы литератора Подхалимова, адвоката Балалайкина, ученого Полосатова -- идеологической и "деловой" свиты новых "стол-лов".
Щедрин высоко ценил принципиальное значение интеллигенции как образованной прослойки общества. Он писал: "Не будь интеллигенции, мы не имели бы ни понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе". Но просветительский пафос в общей оценке интеллигенции сочетался у автора "Писем к тетеньке" с трагическим пониманием двойственности ее социального положения и проистекавшего отсюда политического бессилия противостоять реакции, вести самостоятельно борьбу. "Командой слабосильных" называл он либерально-буржуазную оппозицию режиму. К той же части интеллигенции, которая под знаменами "либерализма" шла на явные или тайные сделки с самодержавием и правым лагерем, Щедрин относился с открытым презрением и подвергал ее особенно едкой и беспощадной критике. Эту линию салтыковских обличений высоко ценил Чехов. Он так откликнулся на смерть писателя: "Мне жаль Салтыкова. Это была крепкая сильная голова. Тот сволочной дух, который живет в мелком, измошенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба, потерял в нем своего самого упрямого и назойливого врага. Обличать умеет каждый газетчик, издеваться умеет и Буренин, но открыто презирать умел один только Салтыков".
Щедринская "социология" русской жизни богата многими образами, подобных которым нет у других писателей. Таков, например, групповой портрет "молчалиных", страшных своей безликостью и массовостью "деятелей" ненавистной Щедрину сферы "умеренности и аккуратности", сферы "начальстволюбия", служительских слов, служительских поступков и психологии. Изображение "молчалиных" и "молчалинства" -- щедринские видоизменения грибоедовского образа -- одно из высших достижений сатирика, чрезвычайно высоко оцененное Достоевским.
Писатель глубоко национальный, Щедрин относительно редко обращался к оценке иноземной жизни. Но его "За рубежом" -- одна из великих русских книг о Западе. Предметом глубокой и блестящей сатирической критики в ней являются государственные и политические институты буржуазного мира Западной Европы, а также сферы его духовной культуры. Силу и остроту щедринских характеристик Третьей республики Франции как "республики без республиканцев", Ленин назвал классическими. Не менее замечательны страницы, посвященные французскому натурализму 1870-х годов. Щедрин обнажает связь этого литературного направления с буржуазией периода ее установившегося могущества и вместе с тем качала ее культурно-исторического упадка. В литературе, провозгласившей принципиальный отказ от борьбы за общественные идеалы, он видит "современного французского буржуа", которому "ни идеалы, ни героизм уже не под силу".
Мощь и глубина социального критицизма Щедрина требовал" для литературного выражения новых художественных форм. Они были найдены и создали в рамках русского реализма особое искусство. Главнейшими особенностями его являются, во-первых, преимущественное внимание не к индивидуально-личной, а к общественной сфере психологии и поведения человека и, во-вторых, сращенность эстетической системы писателя с его прямыми политическими оценками, социологическими суждениями и философско-историческим осмыслением.
Щедрин знал, что реальные "силы" отвергаемого им "порядка вещей" еще не поколеблены, что победа не близка. Но он был убежден в неминуемости грядущего распада этого "порядка" и умел смотреть на его "силы" с высоты будущего. А оно всегда представлялось ему в свете тех "неумирающих положений" утопического социализма, которые были усвоены им в юные годы и которые вошли в общее развитие социалистической мысли. Щедрин называл это будущее "новой жизнью" и "городом Умновым". Для него, рационалиста и просветителя, это будущее было "действительностью" не только возможною, но и "непременно имеющей быть", хотя "действительность" эта и уходила в неразличимую еще даль времен. Столь высокая точка зрения не только придавала трагической сатире Щедрина гордый пафос исторической бодрости и надежды. Она вместе с тем определила одну важную особенность щедринского изображения мира. Явления жизни, становившиеся предметом критики Щедрина, воспринимались им в двух плоскостях. В одной они предстояли во всей конкретности своего "физического" существования, в другой -- как объективности, не соответствующие идеалу, поэтому отрицаемые и в идейно-моральном плане как бы не существующие.
Одним из способов литературного выражения такого восприятия служит у Щедрина система образов, которые условно можно назвать "ирреальными" и которые углубляли его творчество, его иногда очень мрачное и трагическое восприятие действительности: "призраки", "тени", "миражи", "трепеты", "сумерки", "фантасмагории", "светящаяся пустота", "черная дыра жизни" и др. "Исследуемый мною мир есть воистину мир призраков", -- заявлял Щедрин. И пояснил затем: "Но я утверждаю, что эти призраки не только не бессильны, но самым решительным образом влияют на жизнь..." Как глубоко брал здесь плуг писателя, показывает его критика главнейших институтов современного ему общества в их реальном содержании.
"Я обратился к семье, к собственности, к государству, -- раскрывал Салтыков общую идею своих произведений 1870-х годов, -- и дал понять, что в наличности ничего этого уже нет. Что, стало быть, принципы, во имя которых стесняется свобода, уже не суть принципы даже для тех, которые ими пользуются". И заявлял дальше: "Мне кажется, что писатель, имеющий в виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иных идеалов, кроме тех, которые исстари волнуют человечество. А именно свобода, равноправность и справедливость".
С миром "призраков" сосуществует в щедринской сатире близкий к нему мир "кукол" и "масок", мир "картонной жизни" и "жизни механической", мир людей-манекенов, людей-автоматов. Эта система образов служит автору "Игрушечного дела людишек" для изображения, с одной стороны, мощных бюрократических механизмов царизма, а с другой -- разного рода явлений "мнимой", "ненастоящей", "обманной" жизни -- ее примитивов, стереотипов и всякого рода социальных искажений облика и поведения человека. Глубокое развитие получил у Щедрина прием сближения черт человеческих с чертами животных. На этом принципе созданы щедринские "Сказки" -- одна из жемчужин русской литературы.
Щедринское искусство гротеска и гиперболы многообразно. Но во всех своих формах и приемах оно направлено на достижение единых главных целей: обнажать привычные явления жизни от покровов обыденности, привлекать внимание к этим явлениям различными способами их заострения и показывать их подлинную суть в увеличительном стекле сатиры. Щедринские гротески и гиперболы исполнены яркой художественной выразительности, беспримерного остроумия и удивительной емкости обобщения. Вспомним, для примера, знаменитого градоначальника-автомата Брудастого из "Истории одного города". Он управлял обывателями при помощи "органчика" в голове, игравшего всего лишь две "пьесы". Одна называлась "Разорю!", другая -- "Не потерплю!". Здесь с предельной плотностью спрессованы определяющие свойства самодержавной власти: насилие, произвол и механическое бездушие. Гротеск у Щедрина -- один из приемов в его поэтике, посредством которого он достигал удивительной силы и выразительности в типизации сложных явлений общественно-политической жизни.
Как и всякая великая литература, произведения Щедрина -- это органическое соединение феноменов идей, языка и стиля. В этом последнем отношении поэтика и стилистика произведений Щедрина чрезвычайно богаты острым идеологически действенным фразеологическим и лексическим материалом. Блестящий комизм ("vis comica") и словесное мастерство писателя, сила его иронии и сарказма, иногда "раблезианской" грубости были направлены на борьбу не только с самодержавно-помещичьим строем, но и со всем социальным нестроением в жизни, психологии и поведении людей, порожденным веками существования человечества в условиях антагонистических общественных структур. Щедринская фразеология и лексика во многом живы, применимы и поныне. Но еще более, конечно, велик их исторический интерес. Фразеологический и лексический словарь Щедрина, если бы он был создан, мог бы стать ярчайшим пособием не только щедриноведческим, но и по истории общественной жизни и борьбы в России XIX века, по истории русского социального и политического быта. Знание этого быта у читателя нашего времени и теперь уже очень незначительно, что не может не мешать доступу к литературе и искусству прошлого.
Фразеология и лексика Щедрина содержат множество ярких образцов его искусства "заклеймения" социально отрицательных явлений действительности. Они помогают отчетливее и глубже увидеть и понять как реакционно-консервативные -- "глуповские" и "пошехонские" -- недра и силы старой России, с которыми сражалось великое обличительное искусство писателя, так и его противостоящие этим силам общественные идеалы. Для литераторов художественно-публицистических жанров поэтика и стилистика Щедрина представляют выдающуюся ценность как школа мастерства слова и редкого искусства пользоваться языковым оружием идейных противников для борьбы с ними и защиты своих идеалов. Ведь Щедрин -- и только он один -- умел, например, пользоваться самыми матерыми штампами русской приказной речи, канцелярского и делового языка царской бюрократии для ее же полного посрамления. Он умел и все другие социальные "диалекты": помещичий или "чумазовский" лексикон, язык аристократической гостиной или язык воинствующей реакционной публицистики -- дворянско-консервативной ("катковской"), или буржуазно-беспринципной ("суворинской") использовать для осмеяния идеологических "святынь", для разрушения идеологических "алтарей" и "твердынь" врага.
Вот, например, щедринская фразеология слов "мероприятие" и "обыватель" в одном текстовом фрагменте: "Прежде всего замечу, что истинный администратор никогда не должен действовать иначе, как чрез посредство мероприятий. Всякое действие не есть действие, а есть мероприятие. Приветливый вид, благосклонный взгляд суть такие же меры внутренней политики, как экзекуция. Обыватель всегда в чем-нибудь виноват". Вот фразеология слова "чин": "Небоящиеся чинов оными награждены не будут, боящемуся же все дастся", и слова "начальство": "Дозволяется при встрече с начальством вежливыми и почтительными телодвижениями выражать испытываемое при сем удовольствие". А вот фразеология, клеймящая лжепатриотов, лицедеев и клеветников: "Есть люди, которые мертвыми дланями стучат в мертвые перси, которые суконным языком выкликают "Звон победы раздавайся!" и зияющими впадинами вместо глаз выглядывают окрест: кто не стучит в перси и не выкликает вместе с ними?.."
Идеологическая активность щедринских фразеологизмов подтверждается частыми обращениями к ним Ленина. На его страницах то и дело встречаем в кавычках и без кавычек слова и выражения, восходящие к Щедрину, например: "Русский мужик беден всеми видами бедности, но больше всего сознанием своей бедности", "благоглупости", "государственные младенцы", "Чего изволите?", "лужение умывальников", "игрушечного дела людишки", "пенкосниматели", "градоначальническое единомыслие", "торжествующая свинья", "применительно к подлости", "мягкотелый интеллигент" и др. И Ленин не был тут одинок. Вся демократическая публицистика дореволюционной эпохи широко обращалась к лексике и фразеологии Щедрина, несопоставимых ни с чем по силе изобразительности и словесной крепи обличения, сарказма) презрения по отношению к тем явлениям, которые, с точки зрения писателя, подлежали критике, осмеянию, отрицанию. Вот еще несколько демонстраций этого боевого оружия Щедрина: "Вкупе сомерзавствовать", "доктринеры бараньего рога и ежовых рукавиц", "Говорил мало, мыслил еще меньше, ибо был человеком телодвижений по преимуществу", "вредоносно умен", "сектаторы брюхопоклонничества", "душегубствующие любезности", "камни невежества", "брюшной материализм", "душедрянствовать", "умонелепствовать", "плавно-пустопорожная речь", "нагое единоначалие", "известительная инициатива", "смазурничать" "гангрена лицемерия", "узы срама", "спридворничать", "ядоносцы", "столпослужение", "административные поцелуи" и "административный восторг", "пустодушие", "спасительный начальственный трепет", "змееподобные ретирадники", "не могим знать, начальство приказывает", "Отечеству надлежит служить, а не жрать его" и многое многое другое.
Одна из главных особенностей поэтики и стиля Щедрина -- эзоповский язык или эзоповская манера, то есть совокупность семантических, синтаксических и ряда других приемов, придающих произведению или его отдельным элементам двузначность, когда за прямым смыслом сказанного таится второй план понимания, который и раскрывает подлинные мысли и намерения автора. Эзоповский, или "рабий", язык -- по имени древнегреческого баснописца, раба Езопа -- был одним из средств защиты щедринских произведений от терзавшей их царской цензуры. Однако значение эзоповских иносказаний в творчестве Щедрина не ограничивается их противоцензурно-маскировочной ролью. "В виду общей рабьей складки умов, -- указывал Щедрин, -- аллегория все еще имеет шансы быть более понятной и убедительной и, главное, привлекательной, нежели самая понятная и убедительная речь".
В условиях политического бесправия при самодержавии с полностью открытым и ясным словом публично выступать могли лишь официальная идеология и поддерживающие ее консервативно-реакционные силы да безыдейная печать ("улица"). Их "ясную речь" Щедрин называл "клейменым словарем", "холопьим языком" и противопоставлял ей богатый идейно-политическим подтекстом, внутренне свободный, не знавший никаких внешних "табу" эзоповский язык демократической литературы и публицистики. Кроме того, вынужденный прибегать к "обманным средствам" в силу политической необходимости, Щедрин нашел в них дополнительный и богатый источник художественной выразительности и тем самым превратил эту необходимость в свободу для себя как писателя. "Она и не безвыгодна, -- говорил Щедрин об "эзоповской" манере, -- потому что, благодаря ее обязательности, писатель отыскивает такие пояснительные черты и краски, в которых при прямом изложении предмета не было бы надобности, но которые все-таки не без пользы врезываются в память читателя". В основе "эзоповской манеры" Щедрина лежит иносказание, предполагающее ориентированность сатирических сюжетов, фабул, характеров на реальные события, факты и проблемы действительности, известные читателям-современникам непосредственно из текущего жизненного опыта. Так, похождения "странствующего полководца" Редеди в "Современной идиллии", описанные в манере шаржа и гротеска, определяющими сигналами ориентации "накладываются" на реальные факты из деятельности и поведения русского "добровольного полководца" в сербской армии во время сербско-турецкой войны 1876 года царского генерала авантюристического склада М. Г. Черняева. "История одного города" и в целом, и в отдельных своих компонентах ориентирована на русскую общественную жизнь конца 1860-х гг. -- периода реакции после краха революционной ситуации начала десятилетия, что отсрочило на неопределенное время ликвидацию ненавистного "Глупова" -- самодержавно-помещичьего строя. Но "историческая форма" для остросовременной сатиры не только эзоповский противоцензурный прием. Не в меньшей мере это и способ широкоохватного художественного обобщения действительности, связывающего настоящее с историческим прошлым, что входило в самую суть замысла, в проблематику и структуру произведения. Указание Щедрина, что мракобесный персонаж "Истории одного города" Парамоша совсем не Магницкий только, "но вместе с тем и граф Д. А. Толстой, и даже не граф Д. А. Толстой, а все вообще люди известной партии", показывает, как именно понимал писатель характер типизации при помощи "исторической формы".
Эзоповский язык Щедрина имеет разнообразную "технику" -- своего рода условные "шифры", рассчитанные в условиях эпохи на понимание их "читателем-другом". Наиболее часто "зашифровка" осуществляется приемом сатирических псевдонимов или парафраз со скрытым значением: "Помпадуры" -- губернаторы и другие представители высшей губернской администрации; "пение ура" -- официальный гимн самодержавия "Боже, царя храни..."; "фюить!" -- административная высылка; "привести к одному знаменателю", "ежовые рукавицы", "атмосфера обуздания" и пр. -- авторитарно-насильнические природа и практика самодержавной власти и ее государственного аппарата. Слияние цензурно-защитных функций эзоповской речи с ее художественно-сатирической выразительностью демонстрирует блестящий ряд щедринских "департаментов" -- метонимических псевдонимов царских министерств и других высших государственных учреждений самодержавия: "Департамент препон и неудовлетворений" -- Министерство внутренних дел; "Департамент изыскания источников и наполнения бездн" -- Министерство финансов; "Департамент недоумений и оговорок" -- Министерство юстиции; "Департамент расхищений и раздач" -- Министерство государственных имуществ; "Департамент государственных умопомрачений" -- Министерство народного просвещения; "Департамент отказов и удовлетворений" -- Сенат; "Департамент любознательных производств" -- "высший" орган политической полиции самодержавия, знаменитое III Отделение и т. д. Псевдонимами со скрытым значением обозначаются не только отрицательные и обличаемые, но и положительные и утверждаемые явления и факты, прямое название которых по цензурным условиям было невозможно: "гневные движения истории" -- революция; "люди самоотвержения" -- революционеры; "бредни", "мечтания", "фантазии" -- передовые общественные идеалы и т. д. Многие псевдонимы имеют более сложный характер. Их понимание рассчитано на возникновение у читателя при помощи какого-либо сигнала узнавания (дешифратора) определенных ассоциаций из политического быта -- современного или исторического. Таков, например, эзоповский текст: "Ведь справляются же с литературой. Не писать о соборах; ни об Успенском, ни об Архангельском, ни об Исаакиевском -- и не пишут. Вот о колокольнях (псевдоним) писать -- это можно, но я и об колокольнях писать не желаю". Здесь слово "собор" означает конституцию ( -- земские соборы в России XVI -- XVII вв.), слово "колокольня" -- самодержавие ( -- столп, -- столповая колокольня), а стоящее в скобках слово "псевдоним" является сигналом узнавания, дешифратором.
Важную роль в эзоповском иносказании Щедрина, как и вообще в его поэтико-стилистической системе, особенно в произведениях с прямыми "агитационными" заданиями (как, например в "Письмах к тетеньке"), играет интонация, особенно прием мнимой серьезности. При помощи этого приема достигается, например, такое ироническое переосмысление официальных политических терминов, которое заставляет понимать их в значении, противоположном их прямому смыслу. Напр., в "Недоконченных беседах": "народная политика" -- означает противонародную; "правовой порядок" -- бесправие; "реформы" -- ликвидацию реформ; "превратные суждения" -- передовые взгляды и т. д. К распространенным приемам эзоповской речи Щедрина принадлежат также "фигуры умолчания" и "фигуры отсечения" или незаконченности слов и предложений: "не доказывает ли это...? -- ничего не доказывает!"; "...сатирами заниматься никто не препятствует. Вот только касаться -- этого действительно нельзя" (не сказано, чего нельзя касаться); "Ведь это почти конс..." (имеется в виду конституция), и т. д.
Непревзойденный мастер сатирического "цеха" и условных форм поэтики, Щедрин был в то же время полностью одарен главнейшими качествами великого художника-реалиста -- способностью создавать мир живых людей, глубокие человеческие характеры, видеть и изображать трагическое, причем даже в таких судьбах и ситуациях, которые, казалось бы, не могли заключать в себе никакого трагизма. Абсолютная вершина Щедрина в искусстве его беспощадного реализма и трагического -- "Господа Головлевы". Финальные сцены романа происходят в неподвижной и как бы несуществующей жизни, в "светящейся пустоте", окруженной мраком головлевского дома, из каждого угла которого ползут шорохи и "умертвил". Сгущая постепенно этот мрак, Щедрин как бы растворяет в нем жуткую фигуру Иудушки. Но вдруг писатель бросает в эту тьму, как Рембрандт на своих полотнах, тонкий луч света. Слабый луч всего лишь от искры пробудившейся в Иудушке "одичалой совести", но пробудившейся поздно, бесплодно. И вот -- чудо искусства, чудо художника! -- отвратительная и страшная фигура выморочного "героя" превращается в трагическую. Казалось бы, вконец обесчеловеченный человек возвращает себе человеческое, испытывает нравственное страдание... Но это не реабилитация Иудушки, а завершение суда над ним моральным возмездием.
Суровость и мрачность многих щедринских картин служили и служат иногда поводом для выводов об угрюмости, даже пессимизме Щедрина, будто бы не способного по самой своей природе к восприятию света, радости и многоцветья мира. Действительно, социальное зрение писателя было таково, что он преимущественно, говоря словами Гоголя, видел вещи "с одного боку". Вот, например, для иллюстрации сказанного салтыковская зарисовка Дворцовой площади в Петербурге -- одного из красивейших и величественнейших архитектурных пейзажей мира: "Передо мною расстилалась неоглядная пустыня, обрамленная всякого рода присутственными местами, которые как-то хмуро, почти свирепо глядели на меня зияющими отверстиями своих бесчисленных окон, дверей и ворот. При взгляде на эти черные пятна, похожие на выколотые глаза, в душе невольно рождалось ощущение упраздненности. Казалось, что тут витают не люди, а только тени людей. Да и те не постоянно прижились, а налетают урывками; появятся, произведут какой-то таинственный шелест, помечутся в бесцельной тоске и опять исчезнут, предоставив упраздненное место в жертву оргии архивных крыс, экзекуторов и сторожей". Во всей русской литературе прославленный архитектурный пейзаж Петербурга мог быть изображен с такой сатирической жесткостью только Щедриным. При всем том суровый и мрачный писатель все же хорошо знал, "сколько еще разлито света в самих сумерках" и "сколько еще теплится красоты и добра под темным флером, наброшенным на жизнь". Но не такова была его общественная позиция, не таковы зовы его обличительного и карающего искусства, глаз и эмоции художника, чтобы в условиях "сумерек" и "темного флёра", тяготевших над страной и народом, совершать эстетические прогулки в область прекрасного. "Прокурор русской общественной жизни", как его называли современники, он хотел обвинять -- и обвинял, хотел наносить удары по твердыням глуповского мира -- и наносил их с поистине сокрушающей силой. И ради этих главнейших целей он действительно нередко "запирал свою мастерскую" художника "от поэтических элементов жизни".
Но, во-первых, у Щедрина все же есть немало истинно "поэтических элементов", особенно на страницах народных и пейзажных. А во-вторых, у него, художника отрицательных сторон жизни, была особая эстетика -- эстетика "скрытого" идеала. Прекрасное, в том числе и поэтическое, в сугубо обличительном творчестве Щедрина не столько дано сколько задано. Эстетическое, а вместе с тем и нравственное удовлетворение возникает у читателя от соприкосновения с всегда присутствующим в его произведениях высоким напряжением мысли и чувства, устремленных к идеалу, во имя которого писатель судит враждебную ему действительность. Созданное Щедриным искусство заключает в себе могучие силы не только критики и отрицания, но и утверждения и созидания. Главнейшие из этих сил -- смех, как главное оружие сатиры, любовь к родине и вера в будущее.
Палитра смеха У Щедрина богата и разнообразна. Он использует все ее краски, от светлых, веселых и мягких до мрачных и жестких. Последние преобладают. Стихия Щедрина -- не улыбка и юмор, не ирония, а сарказм. Он гений сарказма. Его насмешка убийственна. Его смех сверкает грозно, как молния, и гремит, как гром из нависшей черной тучи. Он сжигает то, что подлежит уничтожению, и очищает то, что нужно и можно сохранить. И он приносит оптимистическое чувство моральной победы над царящим еще злом. Ибо, по убеждению Щедрина, "ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан и что по поводу его уже раздался смех".
Отрицая многое в прошлом и настоящем России, Щедрин вместе с тем был исполнен страстной любви к своей стране и народу, той "настоящей" тоскующей любви, о которой писал Ленин по поводу национальной гордости Чернышевского и других русских революционеров. "Я люблю Россию до боли сердечной, -- писал Щедрин, -- и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России".
Любовь к родине была неразрывно связана у Щедрина с верой в ее будущее, в будущее ее народа, как и будущее всех людей мира. А будущее представлялось ему в "светлом облике всеобщей гармонии", в свете идеала всеобщей социальной справедливости. Кажется, нет другого писателя, который бы так много думал и писал о будущем, так много жил будущим, как Щедрин. Михайловский писал, что из произведений Щедрина "можно составить целую хрестоматию веры в будущее". Он был исполнен величайшей ответственности перед судом потомства, судом истории. "Воспитывайте в себе идеалы будущего <...>, вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего", -- призывал Щедрин. Лишь следование этому призыву могло, по убеждению писателя, предохранить людей, общество от разъедающего и опошляющего воздействия "мелочей жизни".
Чернышевский назвал Грановского "просветителем нации". Щедрина можно назвать воспитателем общественного самосознания нации и духовно бесстрашным выразителем русской национальной самокритики. И как писатель и как редактор двух лучших демократических журналов эпохи -- "Современника" и "Отечественных записок" -- Щедрин сыграл выдающуюся роль в пробуждении гражданского сознания и возбуждении социально-политического протеста в России. В этом отношении его литературная деятельность имела для русского общества руководящее значение наравне с деятельностью Белинского, Герцена, Некрасова, Добролюбова, Чернышевского.
С тех пор, как жил и творил Щедрин, прошло много лет. Россия прошла за это время через три революции и изменилась до неузнаваемости. Читателям наших дней нелегко или уже невозможно изведать в полной мере то "горькое" наслаждение, которое доставлял писатель своим современникам, и ощутить непосредственное могущество его грозного авторитета. Эта эпоха ушла в далекое прошлое. Ее главный исторический пафос утрачен -- драматический пафос борьбы народов России с самодержавно-крепостническим и помещичье-буржуазным строем. Явление "исторической несовместимости" в той или иной мере неизбежно во взаимоотношениях любого "наследства" и "наследников". Тем более это относится к Щедрину, чьи произведения больше, чем у других русских классиков, погружены в политический быт и общественную борьбу своего времени. Но литературное наследство Щедрина, как и всякого великого писателя, писавшего об "основах", принадлежит не только прошлому, но и настоящему и будущему. Оно открыто для них. Открыто в двух главнейших качествах -- как ценность историческая и как ценность реальной силы в нашей сегодняшней борьбе за идеалы социально-справедливой жизни.
О первом значении кратко, но исчерпывающе сказал Горький: "Невозможно понять историю России во второй половине XIX века без помощи Щедрина". Действительно, щедринские произведения являются единственным в своем роде художественным и публицистическим "комментарием" русской жизни прошлого века. "Комментарием" этим интересовались Маркс и Энгельс, читавшие Щедрина в подлиннике. Много раз обращался к нему Ленин, окружавший талант писателя таким пристальным вниманием.
Следует, однако, признать, что, несмотря на общепризнанность Щедрина, его сейчас плохо знают, мало читают. Некоторых отпугивает смелость его критики и отрицания, мощь разрушающих ударов, странный мир его героев, в котором наряду с живыми людьми, чаще отрицательного типа, сосуществуют люди-куклы, автоматы, маски, силуэты, а наряду с реальной жизнью -- царство "теней" и "призраков". Отпугивают также мрачность многих произведений и их сатирическая жесткость. "Бич сарказма, -- говорил декабрист М. С. Лунин, -- так же сечет, как и топор палача". А Щедрин, как сказано, был гением сарказма. Для многих Щедрин слишком неуютный, колючий, беспощадный писатель. Даже Луначарский, большой его почитатель, говорил: "Сатира Щедрина <...> при всем блестящем остроумии тяжела, ее просто трудно читать! Она такая злая, она звенит как натянутая струна, она готова оборваться. Она надрывает Вам сердце..."
И это отчасти верно. Некоторые произведения Щедрина, особенно последних лет его жизни, написанные в полосе глубокой реакции 1880-х годов, трагичны и предельно напряженны. Кроме того, как уже указано, многое в них погружено в политический быт своего времени и без конкретного знания этого быта трудно для восприятия.
Но не менее верно и другое -- неумирающая художественная ценность основных образов, созданных писателем, могущество и духовное бесстрашие его мысли, ни с чем не сравнимая познавательная сила его произведений, наконец, великая устремленность Щедрина в будущее, неизменно предстоявшее перед его умственным взором в перспективе, хотя и неясной, социалистического идеала.
"Писатели, -- утверждал Чехов, -- которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же... Лучшие из них реальны и пишут жизнь такою, какая она есть, но оттого, что каждая строка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас".
Этот "важный признак" в высшей степени характерен для Щедрина (как и для самого Чехова). Он был и остается одним из тех великих писателей, который умел проводить положительные идеалы в отрицательной форме, умел тревожить мысль и совесть людей, звать их на борьбу за высокий, справедливый строй жизни. "Sursum corda!" -- "ГорИ имеем сердцА!" -- любил повторять Щедрин слова библейского зова пророка Иеремии, вкладывая в них всю силу своей жажды добра и правды. "Неизменным предметом моей литературной деятельности, -- утверждал он, -- был протест против произвола, лганья, хищничества, предательства, пустомыслия и т. д. Ройтесь, сколько хотите во всей массе мною написанного, -- ручаюсь, ничего другого не найдете".
Могучий "протест" Щедрина против всего отрицательного в личной и социальной жизни человека, так же как и его исполненная редкого напряжения и страсти устремленность к идеалам, является живой силой и теперь, когда началось устранение из нашего общества всего плохого, что накопилось в нем, что мы называем "негативными явлениями". В этом движении выдающегося исторического значения Щедрин наш помощник.
Щедрина надо знать, надо читать. Он вводит в понимание социальных глубин и закономерностей жизни, высоко возносит духовность человека и нравственно очищает его.
А теперь, познакомившись с кратким очерком жизни и творчества Щедрина, пусть читатель внимательно вглядится в его портрет, помещенный в начале настоящей книги. Портрет этот произвел при своем первом воспроизведении сильное впечатление на современников писателя и продолжает производить такое же впечатление на людей нашей эпохи. Вот одно из них, принадлежащее Мариэтте Шагинян. Оно записано в ее "Воспоминаниях": "...несравнимо сильнее всех книг Щедрина подействовал на меня его портрет <...> Из-под густых бровей и тяжелых надбровий прямо в глаза вам смотрит отчаянный, почти безумный в своей горечи, какой-то вопрошающий ваг взгляд -- взгляд великого русского писателя. И в этих глазах -- весь путь, все наследие, школа мысли и чувства тех, кто любил свою родину "сквозь слезы", кто боролся за все прекрасное в ней, выйдя один на один, как богатырь в поле, на схватку с безобразными масками, искажавшими это прекрасное".
С. Макашин
ГУБЕРНСКИЕ ОЧЕРКИ
ВВЕДЕНИЕ
В одном из далеких углов России есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу. Не то чтобы он отличался великолепными зданиями, нет в нем садов семирамидиных, ни одного даже трехэтажного дома не встретите вы в длинном ряде улиц, да и улицы-то всё немощеные; но есть что-то мирное, патриархальное во всей его физиономии, что-то успокоивающее душу в тишине, которая царствует на стогнах его. Въезжая в этот город, вы как будто чувствуете, что карьера ваша здесь кончилась, что вы ничего уже не можете требовать от жизни, что вам остается только жить в прошлом и переваривать ваши воспоминания.
И в самом деле, из этого города даже дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец миру. Куда ни взглянете вы окрест -- лес, луга да степь; степь, лес и луга; где-где вьется прихотливым извивом проселок, и бойко проскачет по нем телега, запряженная маленькою резвою лошадкой, и опять все затихнет, все потонет в общем однообразии...
Крутогорск расположен очень живописно; когда вы подъезжаете к нему летним вечером, со стороны реки, и глазам вашим издалека откроется брошенный на крутом берегу городской сад, присутственные места и эта прекрасная группа церквей, которая господствует над всею окрестностью, -- вы не оторвете глаз от этой картины. Темнеет. Огни зажигаются и в присутственных местах и в остроге, стоящих на обрыве, и в тех лачужках, которые лепятся тесно, внизу, подле самой воды; весь берег кажется усеянным огнями. И бог знает почему, вследствие ли душевной усталости или просто от дорожного утомления, и острог и присутственные места кажутся вам приютами мира и любви, лачужки населяются Филемонами и Бавкидами, и вы ощущаете в душе вашей такую ясность, такую кротость и мягкость... Но вот долетают до вас звуки колоколов, зовущих ко всенощной; вы еще далеко от города, и звуки касаются слуха вашего безразлично, в виде общего гула, как будто весь воздух полон чудной музыки, как будто все вокруг вас живет и дышит; и если вы когда-нибудь были ребенком, если у вас было детство, оно с изумительною подробностью встанет перед вами; и внезапно воскреснет в вашем сердце вся его свежесть, вся его впечатлительность, все верования, вся эта милая слепота, которую впоследствии рассеял опыт и которая так долго и так всецело утешала ваше существование.
Но мрак все более и более завладевает горизонтом; высокие шпили церквей тонут в воздухе и кажутся какими-то фантастическими тенями; огни по берегу выступают ярче и ярче; голос ваш звонче и яснее раздается в воздухе. Перед вами река... Но ясна и спокойна ее поверхность, ровно ее чистое зеркало, отражающее в себе бледно-голубое небо с его миллионами звезд; тихо и мягко ласкает вас влажный воздух ночи, и ничто, никакой звук не возмущает как бы оцепеневшей окрестности. Паром словно не движется, и только нетерпеливый стук лошадиного копыта о помост да всплеск вынимаемого из воды шеста возвращают вас к сознанию чего-то действительного, не фантастического.
Но вот и берег. Начинается суматоха; вынимаются причалы; экипаж ваш слегка трогается; вы слышите глухое позвякиванье подвязанного колокольчика; пристегивают пристяжных; наконец все готово; в тарантасе вашем появляется шляпа и слышится: "Не будет ли, батюшка, вашей милости?" -- "Трогай!" -- раздается сзади, и вот вы бойко взбираетесь на крутую гору, по почтовой дороге, ведущей мимо общественного сада. А в городе между тем во всех окнах горят уж огни; по улицам еще бродят рассеянные группы гуляющих; вы чувствуете себя дома и, остановив ямщика, вылезаете из экипажа и сами идете бродить.
Боже! как весело вам, как хорошо и отрадно на этих деревянных тротуарах! Все вас знают, вас любят, вам улыбаются! Вон мелькнули в окнах четыре фигуры за четвероугольным столом, предающиеся деловому отдохновению за карточным столом; вот из другого окна столбом валит дым, обличающий собравшуюся в доме веселую компанию приказных, а быть может, и сановников; вот послышался вам из соседнего дома смех, звонкий смех, от которого вдруг упало в груди ваше юное сердце, и тут же, с ним рядом, произносится острота, очень хорошая острота, которую вы уж много раз слышали, но которая, в этот вечер, кажется вам особенно привлекательною, и вы не сердитесь, а как-то добродушно и ласково улыбаетесь ей. Но вот и гуляющие -- всё больше женский пол, около которого, как и везде, как комары над болотом, роится молодежь. Эта молодежь иногда казалась вам нестерпимою: в ее стремлениях к женскому полу вы видели что-то не совсем опрятное; шуточки и нежности ее отзывались в ваших ушах грубо и матерьяльно; но в этот вечер вы добры. Если б вам встретился пылкий Трезор, томно виляющий хвостом на бегу за кокеткой Дианкой, вы и тут нашли бы средство отыскать что-то наивное, буколическое. Вот и она, крутогорская звезда, гонительница знаменитого рода князей Чебылкиных -- единственного княжеского рода во всей Крутогорской губернии, -- наша Вера Готлибовна, немка по происхождению, но русская по складу ума и сердца! Идет она, и издали несется ее голос, звонко командующий над целым взводом молодых вздыхателей; идет она, и прячется седовласая голова князя Чебылкина, высунувшаяся было из окна, ожигаются губы княгини, кушающей вечерний чай, и выпадает фарфоровая куколка из рук двадцатилетней княжны, играющей в растворенном окне. Вот и вы, великолепная Катерина Осиповна, также звезда крутогорская, вы, которой роскошные формы напоминают лучшие времена человечества, вы, которую ни с кем сравнить не смею, кроме гречанки Бобелины. Около вас также роятся поклонники и вьется жирный разговор, для которого неистощимым предметом служат ваши прелести. И все это так приветливо улыбается вам, всякому вы жмете руку, со всяким вступаете в разговор. Вера Готлибовна рассказывает вам какую-нибудь новую проделку князя Чебылкина; Порфирий Петрович передает замечательный случай из вчерашнего преферанса.
Но вот и сам его сиятельство, князь Чебылкин, изволит возвращаться от всенощной, четверней в коляске. Его сиятельство милостиво раскланивается на все стороны; четверня раскормленных лошадок влачит коляску мерным и томным шагом: сами бессловесные чувствуют всю важность возложенного на них подвига и ведут себя, как следует лошадям хорошего тона.
Наконец и совсем стемнело; гуляющие исчезли с улиц; окна в домах затворяются; где-где слышится захлопыванье ставней, сопровождаемое звяканьем засовываемых железных болтов, да доносятся до вас унылые звуки флейты, извлекаемые меланхоликом-приказным.
Все тихо, все мертво; на сцену выступают собаки...
Казалось бы, это ли не жизнь! А между тем все крутогорские чиновники, и в особенности супруги их, с ожесточением нападают на этот город. Кто звал их туда, кто приклеил их к столь постылому для них краю? Жалобы на Крутогорск составляют вечную канву для разговоров; за ними обыкновенно следуют стремления в Петербург.
-- Очаровательный Петербург! -- восклицают дамы.
-- Душка Петербург! -- вздыхают девицы.
-- Да, Петербург... -- глубокомысленно отзываются мужчины.
В устах всех Петербург представляется чем-то вроде жениха, приходящего в полуночи; но ни те, ни другие, ни третьи не искренни; это так, faГon de parler [манера говорить (франц.)], потому что рот у нас не покрыт. С тех пор, однако ж, как двукратно княгиня Чебылкина съездила с дочерью в столицу, восторги немного поохладились: оказывается, "qu'on n'y est jamais chez soi" [что там никогда не чувствуешь себя дома (франц.)], что "мы отвыкли от этого шума", что "le prince Курылкин, jeune homme tout-Ю-fait charmant, -- mais que Гa reste entre nous -- m'a fait tellement la cour [Князь Курылкин, совершенно очаровательный молодой человек -- но пусть это останется между нами -- так ухаживал за мной (франц.)], что просто совестно! -- но все-таки какое же сравнение наш милый, наш добрый, наш тихий Крутогорск!"
-- Душка Крутогорск! -- пищит княжна.
-- Да, Крутогорск... -- отзывается князь, плотоядно улыбаясь.
Страсть к французским фразам составляет общий недуг крутогорских дам и девиц. Соберутся девицы, и первое у них условие: "Ну, mesdames, с нынешнего дня мы ни слова не будем говорить по-русски". Но оказывается, что на иностранных языках им известны только две фразы: permettez-moi de sortir [позвольте мне выйти (франц.)] и allez-vous en! [убирайтесь вон! (франц.)] Очевидно, что всех понятий, как бы они ни были ограниченны, этими двумя фразами никак не выразишь, и бедные девицы вновь осуждены прибегнуть к этому дубовому русскому языку, на котором не выразишь никакого тонкого чувства.
Впрочем, сословие чиновников -- слабая сторона Крутогорска. Я не люблю его гостиных, в которых, в самом деле, все глядит как-то неуклюже. Но мне отрадно и весело шататься по городским улицам, особливо в базарный день, когда они кипят народом, когда все площади завалены разным хламом: сундуками, бураками, ведерками и проч. Мне мил этот общий говор толпы, он ласкает мой слух пуще лучшей итальянской арии, несмотря на то что в нем нередко звучат самые странные, самые фальшивые ноты. Взгляните на эти загорелые лица: они дышат умом и сметкою и вместе с тем каким-то неподдельным простодушием, которое, к сожалению, исчезает все больше и больше. Столица этого простодушия -- Крутогорск. Вы видите, вы чувствуете, что здесь человек доволен и счастлив, что он простодушен и открыт именно потому, что не для чего ему притворяться и лукавить. Он знает, что бы ни выпало на его долю -- горе ли, радость ли, -- все это его, его собственное, и не ропщет. Иногда только он вздохнет да промолвит: "Господи! кабы не было блох да становых, что бы это за рай, а не жизнь была!" -- вздохнет и смирится пред рукою Промысла, соделавшего и Киферона, птицу сладкогласную, и гадов разных.
Купечества в Крутогорске нет. Коли хотите, проживают в нем так называемые негоцианты, но они пробубнились до такой степени, что, кроме волшебного платья и неоплатных долгов, ничего не имеют. Сгубила их неосновательность рассудка да пристрастие к пиджакам и крепким напиткам. Пробовали было они поначалу, когда деньги еще кой-какие водились, на свой капитал торговать, да нет, не спорится! Сведет негоциант к концу года счеты -- все убыток да убыток, а он ли, кажется, не трудился, на пристани с лихими людьми ночи напролет не пропивывал, да последней копейки в картеж не проигрывал, все в надежде увеличить родительское наследие! -- Не везет! Пробовали они и на комиссию закупы разного товара делать, и тут оказались провинности: купит негоциант щетины да для коммерческого оборота в нее песочку подсыплет, а не то хлебца такого поставит, чтоб хрусту побольше ощущалось -- отказали и тут. Господи! совсем коммерцией заниматься нельзя.
Но вот наступает воскресенье; весь город с раннего утра в волнении, как будто томим недугом. На площадях шум и говор, по улицам езда страшная. Чиновники, не обуздываемые в этот день никаким присутственным местом, из всех сил устремляются к его превосходительству поздравить с праздником. Случается, что его превосходительство не совсем благосклонно смотрит на эти поклонения, находя, что они вообще не относятся к делу, но духа времени изменить нельзя: "Помилуйте, ваше превосходительство, это нам не в тягость, а в сладость!"
-- Сегодня отличная погода, -- говорит Порфирий Петрович, обращаясь к ее превосходительству.
Ее превосходительство слушает с видимым участием.
-- Только жарко немножко-с, -- отзывается уездный стряпчий, слегка привставая на кресле, -- я, ваше превосходительство, потею...
-- Как здоровье вашей супруги? -- спрашивает ее превосходительство, обращаясь к инженерному офицеру, с очевидным желанием замять разговор, принимающий слишком интимный характер.
-- Она, ваше превосходительство, всегда в это время бывает в таком положении...
Ее превосходительство решительно теряется. Общее смущение.
-- А у нас, ваше превосходительство, -- говорит Порфирий Петрович, -- случилось на прошлой неделе обстоятельство. Получили мы из Рожновской палаты бумагу-с. Читали мы, читали эту бумагу -- ничего не понимаем, а бумага, видим, нужная. Вот только и говорит Иван Кузьмич: "Позовемте, господа, архивариуса, -- может быть, он поймет". И точно-с, призываем архивариуса, прочитал он бумагу. "Понимаешь?" -- спрашиваем мы. "Понимать не понимаю, а отвечать могу". Верите ли, ваше превосходительство, ведь и в самом деле написал бумагу в палец толщиной, только еще непонятнее первой. Однако мы подписали и отправили. Общий хохот.
-- Любопытно, -- говорит его превосходительство, -- удовлетворится ли Рожновская палата?
-- Отчего же не удовлетвориться, ваше превосходительство? ведь им больше для очистки дела ответ нужен: вот они возьмут да целиком нашу бумагу куда-нибудь и пропишут-с, а то место опять пропишет-с; так оно и пойдет...
Но я предполагаю, что вы -- лицо служащее и не заживаетесь в Крутогорске подолгу. Вас посылают по губернии обревизовать, изловить и вообще сделать полезное дело.
Дорога! Сколько в этом слове заключено для меня привлекательного! Особливо в летнее теплое время, если притом предстоящие вам переезды неутомительны, если вы не спеша можете расположиться на станции, чтобы переждать полуденный зной, или же вечером, чтобы побродить по окрестности, -- дорога составляет неисчерпаемое наслаждение. Вы лежа едете в вашем покойном тарантасе; маленькие обывательские лошадки бегут бойко и весело, верст по пятнадцати в час, а иногда и более; ямщик, добродушный молодой парень, беспрестанно оборачивается к вам, зная, что вы платите прогоны, а пожалуй, и на водку дадите. Перед глазами вашими расстилаются необозримые поля, окаймляемые лесом, которому, кажется, и конца нет. Изредка попадается по дороге починок из двух-трех дворов или же одиноко стоящая сельская расправа, и опять поля, опять лес, земли-то, земли-то! то-то раздолье тут земледельцу! Кажется, и жил бы и умер тут, ленивый и беспечный, в этой непробудной тишине!
Однако вот и станция; вы утомлены немного, но это -- то приятное утомление, которое придает еще более цены и сладости предстоящему отдыху. В ушах ваших еще остается впечатление звуков колокольчика, впечатление шума, производимого колесами вашего экипажа. Вы выходите из вашего тарантаса и немного пошатываетесь. Но через четверть часа вы снова бодры и веселы, вы идете бродить по деревне, и перед вами развертывается та мирная сельская идиллия, которой первообраз так цельно и полно сохранился в вашей душе. С горы спускается деревенское стадо; оно уж близко к деревне, и картина мгновенно оживляется; необыкновенная суета проявляется по всей улице; бабы выбегают из изб с прутьями в руках, преследуя тощих, малорослых коров; девчонка лет десяти, также с прутиком, бежит вся впопыхах, загоняя теленка и не находя никакой возможности следить за его скачками; в воздухе раздаются самые разнообразные звуки, от мычанья до визгливого голоса тетки Арины, громко ругающейся на всю деревню. Наконец стадо загнано, деревня пустеет; только кое-где по завалинкам сидят еще старики, да и те позевывают и постепенно, один за другим, исчезают в воротах. Вы сами отправляетесь в горницу и садитесь за самовар. Но -- о чудо! -- цивилизация и здесь преследует вас! За стеною вам слышатся голоса.
-- Как тебя зовут? -- спрашивает один голос.
-- Кого? -- отвечает другой.
-- Тебя.
-- Меня-то?
-- Ну да, тебя.
-- Зовут-то? -- Ах, чтоб тебя... -- Раздаются аплодисменты.
-- Аким, Аким Сергеев, -- торопливо отвечает голос. Ваше любопытство заинтересовано; вы посылаете разведать, что происходит у вас в соседях, и узнаете, что еще перед вами приехал сюда становой для производства следствия да вот так-то день-деньской и мается.
Вам внезапно делается грустно, и вы поспешно велите закладывать лошадей.
И снова перед вами дорога, снова свежий ветер нежит ваше лицо, снова обнимает вас тот прозрачный полумрак, который на севере заменяет летние ночи.
А полный месяц кротко и мягко освещает всю окрестность, над которою вьется, как пар, легкий ночной туман...
Да, я люблю тебя, далекий, никем не тронутый край! Мне мил твой простор и простодушие твоих обитателей! И если перо мое нередко коснется таких струн твоего организма, которые издают неприятный и фальшивый звук, то это не от недостатка горячего сочувствия к тебе, а потому собственно, что эти звуки грустно и болезненно отдаются в моей душе. Много есть путей служить общему делу; но смею думать, что обнаружение зла, лжи и порока также не бесполезно, тем более что предполагает полное сочувствие к добру и истине.
ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА
ПЕРВЫЙ РАССКАЗ ПОДЬЯЧЕГО
Свежо предание, а верится с трудом...
"...Нет, нынче не то, что было в прежнее время; в прежнее время народ как-то проще, любовнее был. Служил я, теперича, в земском суде заседателем, триста рублей бумажками получал, семейством угнетен был, а не хуже людей жил. Прежде знали, что чиновнику тоже пить-есть надо, ну, и место давали так, чтоб прокормиться было чем... А отчего? оттого, что простота во всем была, начальственное снисхождение было -- вот что!
Много было у меня в жизни случаев, доложу я вам, случаев истинно любопытнейших. Губерния наша дальняя, дворянства этого нет, ну, и жили мы тут как у Христа за пазушкой; съездишь, бывало, в год раз в губернский город, поклонишься чем бог послал благодетелям и знать больше ничего не хочешь. Этого и не бывало, чтоб под суд попасть, или ревизии там какие-нибудь, как нынче, -- все шло себе как по маслу. А вот вы, молодые люди, поди-ка, чай, думаете, что нынче лучше, народ, дескать, меньше терпит, справедливости больше, чиновники бога знать стали. А я вам доложу, что все это напрасно-с; чиновник все тот же, только тоньше, продувнее стал... Как послушаю я этих нынешних-то, как они и про экономию-то, и про благо-то общее начнут толковать, инда злость под сердце подступает.
Брали мы, правда, что брали -- кто богу не грешен, царю не виноват? да ведь и то сказать, лучше, что ли, денег-то не брать, да и дела не делать? как возьмешь, оно и работать как-то сподручнее, поощрительнее. А нынче, посмотрю я, всё разговором занимаются, и всё больше насчет этого бескорыстия, а дела не видно, и мужичок -- не слыхать, чтоб поправлялся, а кряхтит да охает пуще прежнего.
Жили мы в те поры, чиновники, все промеж себя очень дружно. Не то чтоб зависть или чернота какая-нибудь, а всякий друг другу совет и помощь дает. Проиграешь, бывало, в картишки целую ночь, всё дочиста спустишь -- как быть? ну, и идешь к исправнику. "Батюшка, Демьян Иваныч, так и так, помоги!" Выслушает Демьян Иваныч, посмеется начальнически: "Вы, мол, сукины дети, приказные, и деньгу-то сколотить не умеете, всё в кабак да в карты!" А потом и скажет: "Ну, уж нечего делать, ступай в Шарковскую волость подать сбирать". Вот и поедешь; подати-то не соберешь, а ребятишкам на молочишко будет.
И ведь как это все просто делалось! не то чтоб истязание или вымогательство какое-нибудь, а приедешь этак, соберешь сход.
-- Ну, мол, ребятушки, выручайте! царю-батюшке деньги надобны, давайте подати.
А сам идешь себе в избу да из окошечка посматриваешь: стоят ребятушки да затылки почесывают. А потом и пойдет у них смятение, вдруг все заговорят и руками замахают, да ведь с час времени этак-то прохлажаются. А ты себе сидишь, натурально, в избе да посмеиваешься, а часом и сотского к ним вышлешь: "Будет, мол, вам разговаривать -- барин сердится". Ну, тут пойдет у них суматоха пуще прежнего; начнут жеребий кидать -- без жеребья русскому мужичку нельзя. Это, значит, дело идет на лад, порешили идти к заседателю, не будет ли божецкая милость обождать до заработков.
-- Э-э-эх, ребятушки, да как же с батюшкой-царем-то быть! ведь ему деньги надобны; вы хошь бы нас, своих начальников, пожалели!
И все это ласковым словом, не то чтоб по зубам да за волосы: "Я, дескать, взяток не беру, так вы у меня знай, каков я есть окружной!" -- нет, этак лаской да жаленьем, чтоб насквозь его, сударь, прошибло!
-- Да нельзя ли, батюшка, хоть до покрова обождать?
Ну, натурально, в ноги.
-- Обождать-то, для че не обождать, это все в наших руках, да за что ж я перед начальством в ответ попаду? -- судите сами.
Пойдут ребята опять на сход, потолкуют-потолкуют, да и разойдутся по домам, а часика через два, смотришь, сотский и несет тебе за подожданье по гривне с души, а как в волости-то душ тысячи четыре, так и выйдет рублев четыреста, а где и больше... Ну, и едешь домой веселее.
А то вот у нас еще фортель какой был -- это обыск повальный. Эти дела мы приберегали к лету, к самой страдной поре. Выедешь это на следствие и начнешь весь окольный народ сбивать: мало одной волости, так и другую прихватишь -- всех тащи. Сотские же у нас были народ живой, тертый -- как есть на все руки. Сгонят человек триста, ну, и лежат они на солнышке. Лежат день, лежат другой; у иного и хлеб, что из дому взял, на исходе, а ты себе сидишь в избе, будто взаправду занимаешься. Вот как видят, что время уходит -- полевая-то работа не ждет, -- ну, и начнут засылать сотского: "Нельзя ли, дескать, явить милость, спросить, в чем следует?" Тут и смекаешь: коли ребята сговорчивые, отчего ж им удовольствие не сделать, а коли больно много артачиться станут, ну и еще погодят денек-другой. Главное тут дело -- характер иметь, не скучать бездельем, не гнушаться избой да кислым молоком. Увидят, что человек-то дельный, так и поддадутся, да и как еще: прежде по гривенке, может, просил, а тут -- шалишь! по три пятака, дешевле не моги и думать. Покончивши это, и переспросишь их всех скопом:
-- Каков, мол, такой-то Трифон Сидоров? мошенник?
-- Мошенник, батюшка, что и говорить -- мошенник.
-- А ведь он лошадь-то у Мокея украл? он, ребята?
-- Он, батюшка, он должно.
-- А грамотные из вас есть?
-- Нет, батюшка, какая грамота!
Это говорят мужички уж повеселее: знают, что, значит, отпуск сейчас им будет.
-- Ну, ступайте с богом, да вперед будьте умнее.
И отпустишь через полчаса. Оно, конечно, дела немного, всего на несколько минут, да вы посудите, сколько тут вытерпишь: сутки двое-трое сложа руки сидишь, кислый хлеб жуешь... другой бы и жизнь-то всю проклял -- ну, ничего таким манером и не добудет.
Всему у нас этому делу учитель и заводчик был уездный наш лекарь. Этот человек был подлинно, доложу вам, необыкновенный и на все дела преостроумнейший! Министром ему быть настоящее место по уму; один грех был: к напитку имел не то что пристрастие, а так -- какое-то остервенение. Увидит, бывало, графин с водкой, так и задрожит весь. Конечно, и все мы этого придерживались, да все же в меру: сидишь себе да благодушествуешь, и много-много что в подпитии; ну, а он, я вам доложу, меры не знал, напивался даже до безобразия лица.
-- Я еще как ребенком был, -- говорит, бывало, -- так мамка меня с ложечки водкой поила, чтобы не ревел, а семи лет так уж и родитель по стаканчику на день отпущать стал.
Так вот этакой-то пройда и наставлял нас всему.
-- Мое, говорит, братцы, слово будет такое, что никакого дела, будь оно самой святой пасхи святее, не следует делать даром: хоть гривенник, а слупи, руки не порти.
И уж выкидывал же он колена -- утешенье вспомнить! Утонул ли кто в реке, с колокольни ли упал и расшибся -- все это ему рука. Да и времена были тогда другие: нынче об таких случаях и дел заводить не велено, а в те поры всякое мертвое тело есть мертвое тело. И как бы вы думали: ну, утонул человек, расшибся; кажется, какая тут корысть, чем тут попользоваться? А Иван Петрович знал чем. Приедет в деревню, да и начнет утопленника-то пластать; натурально, понятые тут, и фельдшер тоже, собака такая, что хуже самого Ивана Петровича.
-- А ну-ка ты, Гришуха, держи-ко покойника-то за нос, чтоб мне тут ловчей резать было.
А Гришуха (из понятых) смерть покойника боится, на пять сажен и подойти-то к нему не смеет.
-- Ослобони, батюшка Иван Петрович, смерть не могу, нутро измирает!
Ну, и освобождают, разумеется, за посильное приношение. А то другого заставляет внутренности держать; сами рассудите, кому весело мертвечину ослизлую в руке иметь, ну, и откупаются полегоньку, -- аи, глядишь, и наколотил Иван Петрович рубликов десяток, а и дело-то все пустяковое.
Однако и страх божий тоже имел: убийцу или душегуба не покроет.
-- Вы, братцы, этого греха и на душу не берите, -- говорит бывало, -- за такие дела и под суд попасть можно. А вы мошенника-то откройте, да и себя не забывайте.
-- Да как же, мол, это так, Иван Петрович? -- спрашиваем мы.
-- А вот как. Убийца-то он один, да знакомых да сватовей у него чуть не целый уезд; ты вот и поди перебирать всех этих знакомых, да и преступника-то подмасли, чтоб он побольше народу оговаривал: был, мол, в таком-то часу у такого-то крестьянина? не пошел ли от него к такому-то? а часы выбирай те, которые нужно... ну, и привлекай, и привлекай. Если умен да дело знаешь, так много тут божьего народа спутать можно; а потом и начинай распутывать. Разумеется, все эти оговоры вздор и кончатся пустяками, да ты-то дело свое сделал: и мужичка от напраслины очистил, и сам сердечную благодарность получил, и преступника уличил.
А то была у нас и такая манера: заведешь, бывало, следствие, примерно хоть по конокрадству; облупишь мошенника, да и пустишь на волю. Смотришь, через месяц опять попался -- опять слупишь и опять выпустишь. До тех, сударь, пор этак действуешь, покуда на голубчике, что называется, лягушечьего пуха не останется. Ну, тогда уж шалишь, любезный, ступай в острог и взаправду. Оно, вы скажете, скверно преступника покрывать, а я вам доложу, что не покрывать, а примерно, значит, пользоваться обстоятельствами дела. Ведь мы знаем, что он наших рук не минует, так отчего ж и не потешить его?
Жил у нас в уезде купчина, миллионщик, фабрику имел кумачную, большие дела вел. Ну, хоть что хочешь, нет нам от него прибыли, да и только! так держит ухо востро, что на-поди. Разве только иногда чайком попотчует да бутылочку холодненького разопьет с нами -- вот и вся корысть. Думали мы, думали, как бы нам этого подлеца купчишку на дело натравить -- не идет, да и все тут, даже зло взяло. А купец видит это, смеяться не смеется, а так, равнодушествует, будто не замечает.
Что же бы вы думали? Едем мы однажды с Иваном Петровичем на следствие: мертвое тело нашли неподалеку от фабрики. Едем мы это мимо фабрики и разговариваем меж себя, что вот подлец, дескать, ни на какую штуку не лезет. Смотрю я, однако, мой Иван Петрович задумался, и как я в него веру большую имел, так и думаю: выдумает он что-нибудь, право выдумает. Ну, и выдумал. На другой день, сидим мы это утром и опохмеляемся.
-- А что, -- говорит, -- дашь половину, коли купец тебе тысячи две отвалит?
-- Да что ты, Иван Петрович, в уме ли? две тысячи!
-- А вот увидишь; садись и пиши:
"Свиногорскому первой гильдии купцу Платону Степанову Троекурову. Ведение. По показаниям таких-то и таких-то поселян (валяй больше), вышепоименованное мертвое тело, по подозрению в насильственном убитии, с таковыми же признаками бесчеловечных побоев, и притом рукою некоего злодея, в предшедшую пред сим ночь, скрылось в фабричном вашем пруде. А посему благоволите в оный для обыска допустить".
-- Да помилуй, Иван Петрович, ведь тело-то в шалаше на дороге лежит!
-- Уж делай, что говорят.
Да только засвистал свою любимую "При дороженьке стояла", а как был чувствителен и не мог эту песню без слез слышать, то и прослезился немного. После я узнал, что он и впрямь велел сотским тело-то на время в овраг куда-то спрятать.
Прочитал борода наше ведение, да так и обомлел. А между тем и мы следом на двор. Встречает нас, бледный весь.
-- Не угодно ли, мол, чаю откушать?
-- Какой, брат, тут чай! -- говорит Иван Петрович, -- тут нечего чаю, а ты пруд спущать вели.
-- Помилуйте, отцы родные, за что разорять хотите!
-- Как разорять! видишь, следствие приехали делать, указ есть.
Слово за словом, купец видит, что шутки тут плохие, хочь и впрямь пруд спущай, заплатил три тысячи, ну, и дело покончили. После мы по пруду-то маленько поездили, крючьями в воде потыкали, и тела, разумеется, никакого не нашли. Только, я вам скажу, на угощенье, когда уж были мы все выпивши, и расскажи Иван Петрович купцу, как все дело было; верите ли, так обозлилась борода, что даже закоченел весь!
Чудовый это был человек, нечего и говорить. За что ни возьмется, все у него так выходит, что любо-дорого смотреть. Кажется, пустая вещь оспопрививанье, а он и тут сумел найтись. Приедет, бывало, в расправу и разложит все эти аппараты: токарный станок, пилы разные, подпилки, сверла, наковальни, ножи такие страшнейшие, что хоть быка ими резать; как соберет на другой день баб с ребятами -- и пошла вся эта фабрика в действие: ножи точат, станок гремит, ребята ревут, бабы стонут, хоть святых вон понеси. А он себе важно этак похаживает, трубочку покуривает, к рюмочке прикладывается да на фельдшеров покрикивает: "точи, дескать, вострее". Смотрят глупые бабы да пуще воют.
-- Смотри, тетка, ведь совсем робенка-то изведет ножищем-то. Да и сам-то, вишь, пьяный какой!
Повоют-повоют, да и начнут шептаться, а через полчаса, смотришь, и выйдет всем одно решенье: даст кто целковый -- ступай домой, а не даст, так всю руку напрочь.
И ведь не то чтоб эти дела до начальства не доходили: доходили, сударь, и изловить его старались, да не на того напали -- такие штуки отмачивал под носом у самого начальства, что только помираешь со смеху. Был у нас это рекрутский набор объявлен; ну, и Иван Петрович, само собой, живейшее тут участие принимал. Такие случаи, доложу вам, самые были для него выгодные, и он смеючись набор своим сенокосом звал. На ту пору был начальником губернии такой зверь, что у!!! (и в старину такие скареды прорывались). Вот и вздумал он поймать Ивана Петровича, и научи же он мещанинишку: "Поди, мол, ты к лекарю, объясни, что вот так и так, состою на рекрутской очереди не по сущей справедливости, семейство большое: не будет ли отеческой милости?" И прилагательным снабдили, да таким, знаете, все полуимперьялами, так, чтоб у лекаря нутро разгорелось, а за оградой и свидетели, и все как следует устроено: погиб Иван Петрович, да и все тут. Только узнал он об этой напасти загодя, от некоторого милостивца, и сидит себе как ни в чем не бывало. Ну, и подлинно, приходит это мещанинишка, излагает все обстоятельно и прилагательное на стол кладет. Как он все это рассказал, как взбеленится мой Иван Петрович, да на него:
-- Ка-а-к! ты подкупать меня! да разве я фальшивую присягу-то принял! душе, что ли, я своей ворог, царствия небесного не хочу!
Да как хватит кулаком по столу -- золотушки-то и покатились по полу, а сам еще пуще кричит:
-- Вон с моих глаз, анафема! гони его, вот так, в шею его, кулаками-то в загорбок!
Мещанинишку выгнали, да на другой день не смотря и забрили в присутствии. А имперьяльчики-то с полу подняли! Уж что смеху у нас было!
Женился он самым, то есть, курьезнейшим образом. Обещал ему тесть пять тысяч, а как дело кончилось -- не дает, да и шабаш. И не то чтоб денег у него не было, а так, сквалыга был, расстаться с ними жаль. Ждет Иван Петрович месяц, ждет другой; кажной-то день жену бьет, а тестя непристойно обзывает -- не берет. А деньги получать надо. Вот и слышим мы как-то: болен Иван Петрович, в белой горячке лежит, на всех это кидается, попадись под руку ножик -- кажется, и зарежет совсем. И так, сударь, искусно он всю эту комедию подделал, что и нас всех жалость взяла. Жену бил пуще прежнего, из окошка, сударь, прыгал, по улицам в развращенном виде бегал. Вот, покуролесивши этак с неделю, выходит он однажды ночью, и прямо в дом к тестю, а в руках у него по пистолету.
-- Ну, говорит, подавай теперь деньги, а не то, видит бог, пришибу.
Старик перепугался.
-- Ты, говорит, думаешь, что я и впрямь с ума спятил, так нет же, все это была штука. Подавай, говорю, деньги, или прощайся с жизнью; меня, говорит, на покаянье пошлют, потому что я не в своем уме -- свидетели есть, что не в своем уме, -- а ты в могилке лежать будешь.
Ну, конечно-с, тут разговаривать нечего: хочь и ругнул его тесть, может и чести коснулся, а деньги все-таки отдал. На другой же день Иван Петрович, как ни в чем не бывало. И долго от нас таился, да уж после, за пуншиком, всю историю рассказал, как она была.
И не себя одного, а и нас, грешных, неоднократно выручал Иван Петрович из беды. Приезжала однажды к нам в уезд особа, не то чтоб для ревизии, а так -- поглядеть.
Однако пошли тут просьбы да кляузы разные, как водится, и всё больше на одного заседателя. Особа была добрая, однако рассвирепела. "Подать, говорит, мне этого заседателя".
А он, по счастью, был на ту пору в уезде, на следствии, как раз с Иваном Петровичем. Вот и дали мы им знать, что будут завтра у них их сиятельство, так имели бы это в предмете, потому что вот так и так, такие-то, мол, их сиятельство речи держит. Струсил наш заседатель, сконфузился так, что и желудком слабеть начал.
-- А что, -- говорит Иван Петрович, -- что дашь? выручу из беды.
-- Да жизни не пожалею, Иван Петрович, будь благодетель.
-- Что мне, брат, в твоей жизни, ты говори дело. Выручать так выручать, а не то выпутывайся сам как знаешь.
Сторговались они, а на другой день и приезжают их сиятельство ранехонько. Ну и мы, то есть весь земский суд, натурально тут, все в мундирах; одного заседателя нет, которого нужно.
-- А где заседатель Томилкин? -- спрашивают их сиятельство.
-- Имею честь явиться, -- отвечает Иван Петрович. Мы так и похолодели.
А их сиятельство и не замечают, что мундир-то совсем не тот (даже мундира не переменил, так натуру-то знал): зрение, должно полагать, слабое имели.
-- На вас, -- говорят их сиятельство, -- множество жалоб, и притом таких, что мало вас за все эти дела повесить.
-- Невинно, видит бог, невинно оклеветали меня враги перед вашим сиятельством; осмелюсь униженно просить выслушать меня и надеюсь вполне оправдаться, но при свидетелях ощущаю робость.
Их сиятельство уважили; пошли они это в другую комнату; целый час он там объяснял: что и как -- никому неизвестно, только вышли их сиятельство из комнаты очень ласковы, даже приглашали Ивана Петровича к себе, в Петербург, служить, да отказался он тем, что скромен и столичного образования не имеет.
А ведь и дел-то он тех в совершенстве не знал, о которых его сиятельству докладывал, да на остроумие свое понадеялся, и не напрасно.
Один был грех на его душе, великий грех -- инородца загубил. Вот это как было. Уезд наш, известно вам, господа, лесной, и всё больше живут в нем инородцы. Народ простодушнейший и зажиточный. Только уж очень неопрятно себя держат, и болезни это у них иностранные развелись, так, что из рода в род переходят. Убьют они это зайца, шкуру с него сдерут, да так, не потроша, и кидают в котел варить, а котел-то не чищен, как сделан; одно слово, смрад нестерпимый, а они ничего, едят всё это месиво с аппетитом. С одной стороны, и не стоит этакой народ, чтоб на него внимание обращать: и глуп-то, и необразован, и нечист -- так, истукан какой-то. Вот ходил один инородец белку стрелять, да и угоразди его каким-то манером невзначай плечо себе прострелить. Хорошо. Само собой, следствие; ну, невзначай так невзначай, и суд уездный решил дело так, что предать, мол, это обстоятельство воле божьей, а мужика отдать на излечение уездному лекарю. Получил Иван Петрович указ из суда -- скучно ехать, даль ужасная! -- однако вспомнил, что мужик зажиточный, недели с три пообождал, да как случилось в той стороне по службе быть, и к нему заодно заехал. А у того между тем и плечо-то совсем зажило. Приехал, теперича, прочитал указ.
-- Раздевайся, говорит.
-- Да у меня, бачка, плечом савсем здоров, -- говорит мужик, -- уж пятым неделем здоров.
-- А это видишь? видишь, идолопоклонник ты этакой, указ его императорского величества? видишь, лечить тебя велено?
Делать нечего, разделся мужик, а он ему и ну по живому-то месту ковырять. Ревет дурак благим матом, а он только смеется да бумагу показывает. Тогда только кончил, как тот три золотых ему дал.
-- Ну, говорит, бог с тобой.
Понадобились Ивану Петровичу опять деньги, он опять к инородцу лечить, да таким манером больше году его томил, покуда всех денег не высосал. Исхудал мужичонка, не ест, не пьет -- бредит лекарем. Однако как заметил, что тут взятки-то гладки, перестал ездить. Отдохнул мужик и смотреть веселее стал. Вот однажды и случилось какому-то чиновнику, совсем постороннему, проезжать мимо этой деревни, и спросил он у поселян, как, мол, живет такой-то (его многие чиновники, по хлебосольству, знавали). Вот и говорят мужику, что тебя, мол, какой-то чиновник спрашивал. Что ж, сударь? представься ему, что это опять лекарь лечить его хочет; пошел домой, ничего никому не сказал, да за ночь и удавился.
Ну, это, я вам доложу, точно грех живую душу таким родом губить. А по прочему по всему чудовый был человек, и прегостеприимный -- после, как умер, нечем похоронить было: все, что ни нажил, все прогулял! Жена до сих пор по миру ходит, а дочки -- уж бог их знает! -- кажись, по ярмонкам ездят: из себя очень красивы.
Так вот-с какие люди бывали в наше время, господа; это не то что грубые взяточники или с большой дороги грабители; нет, всё народ-аматёр был. Нам и денег, бывало, не надобно, коли сами в карман лезут; нет, ты подумай да прожект составь, а потом и пользуйся.
А нынче что! нынче, пожалуй, говорят, и с откупщика не бери. А я вам доложу, что это одно только вольнодумство. Это все единственно, что деньги на дороге найти, да не воспользоваться... Господи!"
-- Как же вы-то попались, Прокофий Николаич, если в ваше время все так счастливо сходило?
-- Ох, уж и не говорите! на таком деле попался, что совестно сказать, -- на мертвом теле. Эта у нас музыка-то по нотам разыгрывалась, а меня на ней-то и попутал лукавый. Дело было зимнее; мертвое-то тело надо было оттаять; вот и повезли мы его в что ни на есть большую деревню, ну, и начали, как водится, по домам возить да отсталого собирать. Возили-возили, покуда осталась одна только изба: солдатка-вдова там жила; той заплатить-то нечего было -- ну, там мы и оставили тело. Собрали на другой день понятых, ну, и тут, разумеется, покорыстоваться желалось: так чтоб не разошлись они по домам, мы и отобрали у них шапки, да в избу и заперли. Только не совсем осторожно это дело состроили, больно многие это заприметили. А на ту пору у нас губернатор -- такая ли собака был, и теперь еще его помню, чтоб ему пусто было. Сейчас это отрешили от должности, и пошла писать. Уличить-то меня доподлинно не уличили, а обпакостили всего да суду предали. И верите ли, ведь знаю я, что меня учинят от дела свободным, потому что улик прямых нет, так нет же, злодеи, истомили всего. Лет десять все волочат: то справки забирают, то следствие дополняют. А я вот сиди без хлеба да жди у моря погоды.
ВТОРОЙ РАССКАЗ ПОДЬЯЧЕГО
"А вот городничий у нас был -- этот другого сорта был мужчина, и подлинно гусь лапчатый назваться может. Прозывался он Фейером, родом был из немцев; из себя не то чтоб видный, а больше жилистый, белокурый и суровый. То и дело, бывало, брови насупливает да усами шевелит, а разговаривает совсем мало. Уж это, я вам доложу, самое последнее дело, коли человек белокурый да суров еще: от такого ни в чем пардону себе не жди. Снаружи-то он будто и не злобствует, да и внутри, может, нет у него на тебя негодования, однако хуже этого человека на всем свете не сыщешь: весь как есть злющий. Уж что забрал себе в голову -- не выбьешь оттоль никакими средствами, хошь режь ты его на куски. Уж на что Иван Петрович, а и тот его побаивался. Говорил он басом, как будто спросонья и все так кратко -- одно-два слова, больше изо рта не выпустит. А на дела и на всю эту полицейскую механику был предошлый: готов не есть, не пить целые сутки, пока всего дела не приделает. Начальство наше все к нему приверженность большую имело, потому как, собственно, он из воли не выходил и все исполнял до точности: иди, говорит, в грязь -- он и в грязь идет, в невозможности возможность найдет, из песку веревку совьет, да ею же кого следует и удавит.
По той единственной причине ему все его противоестественности с рук и сходили, что человек он был золотой. Напишут это из губернии -- рыбу непременно к именинам надо, да такая чтоб была рыба, кит не кит, а около того. Мечется Фейер как угорелый, мечется и день и другой -- есть рыба, да все не такая, как надо: то с рыла вся в именинника вышла, скажут: личность; то молок мало, то пером не выходит, величественности настоящей не имеет. А у нас в губернии любят, чтоб каждая вещь в своем, то есть, виде была. Задумается Фейер, да и засадит всех рыболовов в сибирку. Те чуть не плачут.
-- Да помилуй, ваше благородие, где ж возьмешь эку рыбу?
-- Где? А в воде?
-- В воде-то знамо дело, что в воде; да где ее искать-то в воде?
-- Ты рыболов? говори, рыболов ли ты?
-- Рыболов-то я точно что рыболов...
-- А начальство знаешь?
-- Как не знать начальства: завсегда знаем.
-- Ну, следственно...
И являлась рыба, и такая именно, как быть следует, во всех статьях.
Или, бывало, желательно губернии перед начальством отличиться. Пишут Фейеру из губернии, был чтоб бродяга, и такой бродяга, чтобы в нос бросилось. Вот и начнет Фейер по городу рыскать, и все нюхает, к огонькам присматривается, нет ли где сборища.
Попадаются всё больше бабы.
-- Откуда? -- спрашивает Фейер.
-- Да я, ваше благородие, оттуда, из села из того...
-- Откуда? -- повторяет Фейер.
-- А вот, ваше благородие, по сиротству: по четвертому годку от родителей осталась...
-- Обыскать ее!
Однако от начальства настояние, а об старухе какой-нибудь, безногой, докладывать не осмеливается. Вот и нападет уже он под конец на странника заблудшего, так, бродягу бесталанного.
-- Ты, -- говорит, -- кто таков?
-- А я, ваше благородие, с малолетствия по своей охоте суету мирскую оставил и странником нарекаюсь; отец у меня царь небесный, мать -- сыра земля; скитался я в лесах дремучих со зверьми дикиими, в пустынях жил со львы лютыими; слеп был и прозрел, нем -- и возглаголал. А более ничего вашему благородию объяснить не могу, по той причине, что сам об себе сведений никаких не имею.
-- А это что?
Возьмет он сумку странническую, а там всё цветнички да записочки разные, а в записочках-то уж чего-чего не наврано! И "горнего-то Иерусалима жителю", и "райского жития ревнителю", и "паче звезд небесных добродетелями изукрашенному"!
-- Это что? -- спрашивает Фейер.
-- А это так-с, ваше благородие; намеднись на базаре ходил, так в снегу в тряпочке нашел-с.
-- Марш!
Повлекут раба божия в острог, а на другой день и идет в губернию пространное донесение, что вот так и так, "имея неусыпное попечение о благоустройстве города" -- и пошла писать. И чего не напишет! И "изуверство", и "деятельные сношения с единомышленниками", и "плевелы", и "жатва" -- все тут есть.
Случалось и мне ему в этих делах содействовать -- истинно-с диву дался. Выберем, знаете, время -- сумеречки, понятых возьмем, сотских человек пяток, да и пойдем с обыском. И все врассыпную, будто каждый по своему делу. Как подходишь, где всему происшествию быть следует, так не то чтоб прямо, а бочком да ползком пробираешься, и сердце-то у тебя словно упадет, и в роту сушить станет. Ворота и ставни -- все наглухо заперто. Походит Фейер около дома, приищет скважинку и начнет высматривать, а мы все стоим, молчим, не шелохнемся. Собака начнет ворчать -- у него и хлебца в руке есть, и опять все затихнет. Как все заприметит, что ему нужно, ну и велит в ворота стучаться, а сам покуда все в скважинку высматривает.
-- Кто тут? -- кричат изнутри.
-- Городничий.
Известное дело, смятение: начнут весь свой припас прятать, а ему все и видно. Отопрут наконец. Стоят они все бледные; бабы, которые помоложе, те больше дрожат, а старухи так совсем воют. И уж все-то он углы у них обшарит, даже в печках полюбопытствует, и все оттоль повытаскает.
Смолоду, однако, жизнь его совсем не такая была. Отец у него был человек богатый и дворянин, и нашему Фейеру, сказывают, восемьсот душ оставил. Однако он не долго с ними носился: годика через два все спустил. И не то чтоб на что-нибудь путное, а так -- все прахом пошло. Служил он где-то в гусарах -- ну, на жидов охоту имел: то возьмет да собаками жида затравит, то посадит его по горло в ящик с помоями, да над головой-то саблей и махает, а не то еще заложит их тройкой в бричку, да и разъезжает до тех пор, пока всю тройку не загонит. Таким-то родом и прожил он все, да как остался без хлеба, так откуда и ум взялся. Такой ли зверь сделался, что боже упаси.
Женат он не был, а жила с ним девица не девица, а просто мадам. Звали ее Каролиной, и уж, я вам доложу, этакой красоты я и не привидывал. Не то чтоб полная была или краснощекая, как наши барыни, а тонкая да беленькая вся, словно будто прозрачная. Глаза у ней были голубые, да такие мягкие да ласковые, что, кажется, зверь лютый -- и тот бы не выдержал -- укротился. И подлинно, грех сказать, чтоб он ее не любил, а больше так все об ней одной и в мыслях держал. Известно, могла бы она и попридерживать его при случае, да уж очень смирна была; ну, и он тоже осторожность имел, во все эти дрязги ее не вмешивал. Приедет, бывало, домой весь измученный и пойдет к ней. И сделается такой, сударь, ласковый да нежный: "Каролинхен да Каролинхен", -- и все это ей ручки целует и головку гладит. Или возьмет начнет немецкие песни петь -- оба и плачут сидят. Выходит, у всякого человека есть пункт, что с своей дороги его сбивает.
Прислан был к нам Фейер из другого города за отличие, потому что наш город торговый и на реке судоходной стоит. Перед ним был городничий, старик, и такой слабый да добрый. Оседлали его здешние граждане. Вот приехал Фейер на городничество, и сзывает всех заводчиков (а у нас их не мало, до пятидесяти штук в городе-то).
-- Вы, мол, так и так, платили старику по десяти рублев, ну а мне, говорит, этого мало: я, говорит, на десять рублев наплевать хотел, а надобно мне три беленьких с каждого хозяина.
Так куда тебе, и слушать не хотят.
-- Видали мы-ста эких щелкоперов, и не таких угоманивали; не хочешь ли, мол, этого выкусить!
Известно, народ все буян был.
-- Ну, -- говорит, -- так не хотите по три беленьких?
-- Пять рубликов, -- кричат, -- ни копейки больше.
-- Ладно, -- говорит.
Через неделю, глядь, что ни на есть к первому кожевенному заводчику с обыском: "Кожи-то, мол, у тебя краденые". Краденые не краденые, однако откуда взялись и у кого купил, заводчик объясниться не мог.
-- Ну, -- говорит, -- не давал трех беленьких, давай пятьсот.
Тот было уж и в ноги, нельзя ли поменьше, так куда тебе, и слушать не хочет.
Отпустил его домой, да не одного, а с сотским. Принес заводчик деньги, да все думает, не будет ли милости, не согласится ли на двести рублев. Сосчитал Фейер деньги и положил их в карман.
-- Ну, -- говорит, -- принеси остальные триста.
Опять кланяться стал купец, да нет, одеревенел человек как одеревенел, твердит одно и то же. Попробовал еще сотню принес: и ту в карман положил, и опять:
-- Остальные двести!
И не выпустил-таки из сибирки, доколе всё сполна не заплатил.
Видят парни, что дело дрянь выходит: и каменьями-то ему в окна кидали, и ворота дегтем по ночам обмазывали, и собак цепных отравливали -- неймет ничего! Раскаялись. Пришли с повинной, принесли по три беленьких, да не на того напали.
-- Нет, -- говорит, -- не дали, как сам просил, так не надо мне ничего, коли так.
Так и не взял: смекнул, видно, что по разноте-то складнее, нежели скопом.
Как сейчас помню я, приехал к нам в город сынок купеческий к родным погостить. Ну, все это ему нипочем, цигары, теперича, не цигары, лошади не лошади, пальто не пальто -- кути душа! Соберет это женский пол, натопит в комнате, да и дебоширствует. Не по нутру это Фейеру, потому что насчет чего другого, а насчет нравственности лев был! -- однако терпит сидит. Видит купчик, что ничего, все ему поблажает, он и тон задавать начал. Стали доходить до городничего слухи, что он и там и в другом месте чести его касался. "Я, мол, говорит, и любовницу-то его куплю, как захочу; слышь вы, девки, желательно вам, чтоб городничий танции разные представлял? Это нам все наплевать; пошлем две сотни и сделаем себе удовольствие!"
Молчит Фейер, только усами, как таракан, шевелит, словно обнюхивает, чем пахнет. Вот и приходит как-то купчик в гостиный двор в лавку, а в зубах у него цигарка. Вошел он в лавку, а городничий в другую рядом: следил уж он за ним шибко, ну, и свидетели на всякий случай тут же. Перебирает молодец товары, и всё швыряет, всё не по нем, скверно да непотребно, да и все тут; и рисунок не тот, и доброта скверная, да уж и что это за город такой, что, чай, и ситцу порядочного найтить нельзя.
Ну, купец ему и то и се, и разные резоны говорит.
-- Ты, -- говорит, -- молодец, не буянь, да цигарку-то кинь, не то, чего доброго, городничий увидит.
-- А плевать я, -- говорит, -- на вашего городничего...
В эвто в самое время как быть к вечерне ударили.
-- Ты бы, -- говорит лавочник, -- хоть бога-то побоялся бы, да лоб-от перекрестил: слышь, к вечерням звонят...
А он, заместо ответа, такое, сударь, тут загнул, что и хмельному не выговорить.
Оборачивается, а Фейер тут как тут, словно из земли вырос.
-- Не угодно ли, -- говорит, -- вам повторить то, что вы сейчас сказали?
-- Я... я ничего не говорил, ей-богу, не говорил...
-- Православные! слышали?
-- Слышали, ваше высокоблагородие. -- Марш!
На другой день рассказывает нам городничий всю эту историю.
"Поздравьте, говорит, меня с крестником". Что бы вы думали? две тысячи взял, да из городу через два часа велел выехать: "Чтоб и духу, мол, твоего здесь не пахло".
Да и мало ли еще случаев было! Даже покойниками, доложу вам, не брезговал! Пронюхал он раз, что умерла у нас старуха раскольница и что сестра ее сбирается похоронить покойницу тут же у себя, под домом. Что ж он? ни гугу, сударь; дал всю эту церемонию исполнить да на другой день к ней с обыском. Ну, конечно, откупилась, да штука-то в том, что каждый раз, как ему деньги занадобятся, каждый раз он к ней с обыском:
"Куда, говорит, сестру девала?" Замучил старуху совсем, так что она, и умирая, позвала его да и говорит: "Спасибо тебе, ваше благородие, что меня, старуху, не покинул, венца мученического не лишил". А он только смеется да говорит: "Жаль, Домна Ивановна, что умираешь, а теперь бы деньги надобны! да куда же ты, старая, сестру-то девала?"
А то еще вот какой случай был. Умер у нас в городе купец, и купец, знаете, не из мелконьких. Служил он как-то в городе, головой ли, бургомистром ли, доподлинно теперь не упомню, только мундирчика по закону не выслужил. Ну, родственники, сами изволите ведать, народ безобразнейший, в законе не искусились: где же им знать, что в правиле и что не в правиле? Вот, сударь мой, и решили они семейным советом похоронить покойника во всем парате. Пронюхал сначала всю эту штуку стряпчий. Человек этот был паче пса голодного и Фейером употреблялся больше затем, что, мол, ты только задери, а я там обделаю дело на свой манер. Приходит он к городничему и рассказывает, что вот так и так, "желает, дескать, борода в землю в мундире лечь, по закону же не имеет на то ни малейшего права; так не угодно ли вам будет, Густав Карлыч, принять это обстоятельство к соображению?"
-- Можно, -- говорит, -- валяй отношение.
А купчину тем временем и в церковь уж вынесли... Ну-с и взяли они тут, сколько было желательно, а купца так в парате и схоронили...
А впрочем, мы, чиновники, этого Фейера не любили. Первое дело, он нас перед начальством исполнительностью в сумненье приводил, а второе, у него все это как-то уж больно просто выходило, -- так, ломит нахрапом сплеча, да и все. Что ж и за удовольствие этак-то служить!
Однако в городе эти купчишки да мещанишки лет десять с ним маялись-маялись и, верите ли, полюбили под конец. Нам, говорят, лучше городничего и желать не надо! Привычка-с".
НЕПРИЯТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
Вы послушайте, ребята,
Как живали при Аскольде!
(Из оперы "Аскольдова могила")
Темно. По улицам уездного городка Черноборска, несмотря на густую и клейкую грязь, беспрестанно снуют экипажи самых странных видов и свойств. Городничий уже раз десять, в течение трех часов, успел побывать у подъезда ярко освещенного каменного дома, чтобы осведомиться о здоровье генерала. Ответ был, однако ж, всякий раз один и тот же: "Его высокородие изволят еще почивать".
-- Так вы уж, пожалуйста, им напомните, как они встанут, -- говорил городничий Федору, камердинеру его высокородия.
-- Уж это беспременно-с, -- ответствовал Федор, -- они завсегда у нас в послушаньи...
-- Так я уж буду в надежде-с...
Городничий, Дмитрий Борисыч Желваков -- добрый, крепенький и кругленький, но до крайности робкий старичок. Провинностей за ним особенных не водилось, кроме того, что за стол он садился всякий день сам-двадцат, по случаю непомерного количества дочек, племянниц и других сирот-родственниц. За обедом всегда бывало весело, а после обеда вся семья отправлялась, на длинных дрогах, кататься по городу. Это бы еще ничего; Дмитрий Борисыч очень хорошо знал, что начальство не только разрешает, но даже поощряет невинные занятия, и потому не мешал предаваться им малолетним членам своего семейства. Но на беду вмешались тут пожарные лошади. Сами ли эти невинные твари получили на время дар слова, или осунувшиеся их ребра красноречивее языка докладывали о труженическом существовании, которое влачили владельцы их, -- неизвестно. Известно только, что его высокородие каким-то образом об этом обстоятельстве проведал. Обозревая опрятность в городе, его высокородие счел долгом заехать и на пожарный двор.
-- Это что? -- спросил он, тыкая пальцем в воздухе, когда вывели лошадей.
Дмитрий Борисыч растерялся и озирался во все стороны, не сообразив вдруг вопроса.
-- Это что? -- повторил его высокородие.
-- Это... лошади-с! -- отвечал смущенный городничий.
-- То-то "лошади"! -- произнес его высокородие и, сделавши олимпический жест пальцем, сел в экипаж.
Я всегда удивлялся, сколько красноречия нередко заключает в себе один палец истинного администратора. Городничие и исправники изведали на практике всю глубину этой тайны; что же касается до меня, то до тех пор, покуда я не сделался литератором, я ни о чем не думал с таким наслаждением, как о возможности сделаться, посредством какого-нибудь чародейства, указательным пальцем губернатора или хоть его правителя канцелярии.
Его высокородие был, в сущности, очень добрый господин. Телосложения он был хлипкого, имел румяные щеки и густые седые волосы. Это последнее обстоятельство, по моему мнению, однако же, сильно противоречило добродушному выражению лица Алексея Дмитрича (так звали его высокородие). Неизвестно почему, я с самого малолетства не могу себе вообразить добродетель иначе, как в виде плешивого старца с немного телячьим выражением в очах. По свойственной человечеству слабости, его высокородие не прочь был иногда задать головомойку и вообще учинить такое невежество, от которого затряслись бы поджилки у подчиненного. Так было и в настоящем случае по делу о пожарных лошадях. Алексей Дмитрич очень хорошо сознавал, что на месте Желвакова он бы и не так еще упарил лошадей, но порядок службы громко вопиял о мыле и щелоке, и мыло и щелок были употреблены в дело.
Тем не менее, когда Дмитрию Борисычу объяснили добрые люди, по какой причине его высокородие изволил тыкать пальцем, он впал в ипохондрию. С ним приключился даже феномен, который, наверное, ни с кем никогда не приключался. А именно, ощущая себя в совершенно бодрственном состоянии, он вдруг увидел сон, ужасный, но настоящий сон. Случилось с ним это приключение в то самое время, когда он, после посещения его высокородия, стоял посреди пожарного двора, растопыривши, как следует, руки в виде оправдания. Впоследствии он сам любил рассказывать об этом необыкновенном случае, но, считая его за дьявольское наваждение, всякий раз отплевывался с глубоким омерзением.
-- Стою я это, и вижу вдруг, что будто передо мною каторга, и ведут будто меня, сударь, сечь, и кнут будто тот самый, которым я стегал этих лошадей -- чтоб им пусто было! Только я будто пал, сударь, на колени, и прошу, знаете, пощады. "Нет, говорит, тебе пощады! сам, говорит, не пощадил невинность, так клади теперича голову на плаху!" Вот я и так и сяк -- не проймешь его, сударь, ничем! Только мне и самому будто досадно стало, что вот из-за скотов, можно сказать, бессловесных такое поношение претерпеть должен... "Ну, секи, мол!" -- говорю. На этом самом месте и разбудил меня Алексеев, а то бы, может, и бог знает что со мной было! Так вот-с какие приключения случаются!
И точно, все пятеро полицейских и сам стряпчий собственными глазами видели, как Дмитрий Борисыч стал на колени, и собственными ушами слышали, как он благим матом закричал: "секи же, коли так!"
Когда Дмитрий Борисыч совершенно прочухался от своего сновидения, он счел долгом пригласить к себе на совет старшего из пятерых полицейских, Алексеева, который, не без основания, слыл в городе правою рукой городничего.
-- Слышал? -- спросил Дмитрий Борисыч.
-- Слышал, -- отвечал Алексеев.
-- Ну так то-то же! -- сказал Дмитрий Борисыч и хотел было погрозить пальцем, по подобию его высокородия, но, должно быть, не изловчился, потому что Алексеев засмеялся.
-- Ты чему смеешься? -- спросил Дмитрий Борисыч.
-- Я не смеюсь... зачем смеяться! -- отвечал Алексеев.
-- То-то же! смотри, чтоб у меня теперь лошади... ни-ни... никуда... понимаешь! даже на пожар не сметь... слышишь? везде брать обывательских, даже для барышень!..
Распорядившись таким образом, он поворотился к окну и увидел на улицах такую грязь, что его собственные утки плавали в ней как в пруде.
-- Это что такое? -- спросил Дмитрий Борисыч.
-- А что "что такое"? -- спросил Алексеев.
-- Не видишь? -- спросил Дмитрий Борисыч.
-- Вижу, -- сказал Алексеев.
Вся запальчивость и ретивость Желвакова разбились об это патриархальное равнодушие.
-- Ты бы хоть тово, что ли, -- произнес он немного сконфуженный и отворачиваясь от Алексеева, чтоб скрыть свое смущение.
И в самом деле, чего тут "тово", когда уж "грязь так грязь и есть" и "всё от бога".
-- Вот кабы мы этому делу причинны были, -- глубокомысленно присовокупил Алексеев.
-- Ишь его...
"Принесла нелегкая", -- хотел было сказать Дмитрий Борисыч, но затруднился, потому что и в мыслях не осмеливался нанести какое-нибудь оскорбление начальству.
Но все это еще не беда. Ну, побранили его высокородие -- не повесили же в самом деле! Даже вы не сказали, а продолжали по-прежнему говорить ты и братец. Дело в том, что в этот самый день случилось Дмитрию Борисычу быть именинником, и он вознамерился сотворить для дорогого гостя бал на славу. Каким образом пригласить его высокородие после такого происшествия? Ну, если да они скажут, что "я, дескать, с такими канальями хлеба есть не хочу!" -- а этому ведь бывали примеры. Однако Дмитрий Борисыч приободрился и на обеде у головы, втянув в себя все количество воздуха, какое могли вмещать его легкие, проговорил приглашение не только смелым, но даже излишне звучным голосом. И его высокородие ничего: приняли и даже ласково посмотрели на Дмитрия Борисыча.
-- Да, господин Желваков, -- сказали его высокородие, -- мы приедем, господин Желваков! хорошо, господин Желваков!
По этой-то самой причине и приезжал Дмитрий Борисыч несколько раз в дом купчихи Облепихиной узнать, как почивал генерал и в каком они находятся расположении духа: в веселом, прискорбном или так себе.
Между тем в доме купчихи Облепихиной происходила сцена довольно мрачного свойства. Его высокородие изволил проснуться и чувствовал себя мучительно. На обеде у головы подали такое какое-то странное кушанье, что его высокородие ощущал нестерпимую изжогу, от которой долгое время отплевывался без всякого успеха.
-- Черт их знает, чем они там кормят! -- бормотал Алексей Дмитрич, -- масло, что ли, скверное -- просто мочи нет!
И выпил стакан воды.
-- Экой народ безобразный! зовет есть, словно не знает, кого зовет! Рыба да рыба -- обрадовался, что река близко! Ел, кажется, пропасть, а в животе бурчит, точно три дня не едал! И изжога эта... Эй, Кшецынский!
Вошел господин не столько малого роста, сколько скрюченный повиновением и преданностью.
-- Приезжал городничий?
-- Никак нет-с.
-- Ан, врете вы, приезжал! -- раздалось из передней.
-- Я не видал, ей-богу не видал, ваше высокородие! -- бормотал скороговоркой Кшецынский.
-- Приезжал уж раз десять! -- произнес камердинер Федор, входя в комнату с стаканом чаю на подносе. -- Известно, вы ничего не видите!
-- Это правда, Кшецынский, правда, что ты ничего не видишь! Не понимаю, братец, на что у тебя глаза! Если б мне не была известна твоя преданность... если б я своими руками не вытащил тебя из грязи -- ты понимаешь: "из грязи"?.. право, я не знаю... Что ж, спрашивал что-нибудь городничий?
-- Спрашивал, что, дескать, генерал делают?
-- Ну, а ты что?
-- Спят, мол; известно, мол, что им делать, как не спать! ночью едем -- в карете спим, днем стоим -- на квартере спим.
-- Ты так и сказал?
-- Сказал... отчего не сказать!
-- Ска-атина!
На губах Кшецынского появилась бледная улыбка. Очевидно, что между ним и Федором существовало соперничество такого же рода, какое может существовать между хитрою, но забавною амишкой и неуклюжим, но верным полканом. Федор всегда брал верх; он, нимало не стесняясь, оказывал полное презрение к самым законным и неприхотливым требованиям несчастного выходца. Платье и сапоги его оставались нечищенными, а наместо чая подавалась ему какая-то странная смесь, более похожая на брагу, нежели на чай. За обедом Кшецынский не осмеливался оставить на своей тарелке нож и вилку, потому что Федор, без церемонии, складывал их тут же к нему на скатерть. Кшецынский при этом зеленел и вздрагивал, и во рту у него делалось скверно; но все это происходило лишь на одно мгновение, и он снова потуплял глаза в тарелку. Когда ему подавали кушанье (а подавали ему всегда последнему), Федор никогда не забывал толкнуть его в плечо, если Кшецынский, по его мнению, недостаточно проворно брал кушанье. Больше одного куска ему брать не дозволялось. Вообще, присутствие Кшецынского за барским столом составляло для Федора предмет постоянных и мучительнейших размышлений.
-- И что это за барин такой! -- говаривал он обыкновенно в таких случаях об Алексее Дмитриче, -- просто шавку паршивую с улицы поднял и ту за стол посадил!
Но на этот счет Алексей Дмитрич оставался непреклонным. Кшецынский продолжал обедать за столом его высокородия, и -- мало того! -- каждый раз, вставая из-за стола, проходил мимо своего врага с улыбкою, столь неприметною, что понимать и оценить всю ее ядовитость мог только Федор. Но возвратимся к рассказу.
В передней послышалось шарканье.
-- Да вот и он! -- сказал Федор и, обращаясь к Дмитрию Борисычу, прибавил: -- А вот меня из-за вас, сударь, обругали тут! Зачем только вас носит сюда!
-- А! это ты, господин Желваков! милости просим, господин Желваков! прошу садиться, господин Желваков! -- молвил его высокородие, кротко улыбаясь.
-- Осмелюсь просить ваше высокородие...
-- Помню, господин Желваков! будем, будем, господин Желваков! Кшецынский! и ты, братец, можешь с нами! Смотри же, не ударь лицом в грязь: я люблю, чтоб у меня веселились... Ну, что новенького в городе? Как поживают пожарные лошадки?
Желваков побледнел.
-- Ну, да ты не тово! я это так! А дать господину Желвакову чаю!
Федор явился с стаканом, который не столько подал, сколько сунул в руку Дмитрию Борисычу.
-- Да ты попробуй прежде, есть ли сахар, -- сказал его высокородие, -- а то намеднись, в Окове, стряпчий у меня целых два стакана без сахару выпил... после уж Кшецынский мне это рассказал... Такой, право, чудак!.. А благонравный! Я, знаешь, не люблю этих вот, что звезды-то с неба хватают; у меня главное, чтоб был человек благонравен и предан... Да ты, братец, не торопись, однако ж, а не то ведь язык обожжешь!
-- Помилуйте, ваше высокородие, мы завсегда с полным нашим удовольствием...
Между тем для Дмитрия Борисыча питие чая составляло действительную пытку. Во-первых, он пил его стоя; во-вторых, чай действительно оказывался самый горячий, а продлить эту операцию значило бы сневежничать перед его высокородием, потому что если их высокородие и припускают, так сказать, к своей высокой особе, то это еще не значит, чтоб позволительно было утомлять их зрение исполнением обязанностей, до дел службы не относящихся.
-- Да ты, братец, садись.
-- Помилуйте, ваше высокородие...
-- Садись, братец.
-- Не в таких чинах, ваше высокородие...
-- Ну, как хочешь.
-- Исправник Маремьянкин! -- провозглашает Федор.
-- Так я буду в надежде-с, ваше высокородие! -- говорит Дмитрий Борисыч, в последний раз обжигая губы и удаляясь с стаканом в переднюю.
-- А! Живоглот! -- говорит Алексей Дмитрич, -- добро пожаловать! Молодец, брат, молодец! Ни соринки в суде нет! Молодец, господин Живоглот!
Исправник Маремьянкин мужчина вершков пятнадцати. Живоглотом он прозван по той причине, что, будучи еще в детстве и обуреваемый голодом, которого требованиям не всегда мог удовлетворить его родитель, находившийся при земском суде сторожем, нередко блуждал по берегу реки и вылавливал в ней мелкую рыбешку, которую и проглатывал живьем, твердо надеясь на помощь божию и на чрезвычайную крепость своего желудка, в котором, по собственному его сознанию, камни жерновые всякий злак в один момент перемалывали. Замечательнейшею странностью в его липе было то, что ноздри его представлялись бесстрашному зрителю как бы вывороченными наизнанку, вследствие чего местные чиновники, кроме прозвища Живоглот, называли его еще Пугачевым и "рваными ноздрями".
-- Имею честь, -- рапортует Живоглот.
-- Откуда?
-- Из уезда-с. Приключилось умертвие-с. Нашли туловище, а голову отыскать не могли-с.
-- Как же, брат, это так?
-- С ног сбились искамши, ваше высокородие.
-- Как же это? надо, брат, надо отыскать голову... Голова, братец, это при следствии главное... Ну, сам ты согласись, не будь, например, у нас с тобой головы, что ж бы это такое вышло! Надо, надо голову отыскать!
-- Будем стараться, ваше высокородие.
-- То-то, любезный! ты пойми, ты вникни в мои усилия... как я, могу сказать, денно и нощно...
-- Это справедливо, ваше высокородие.
-- Ну, то-то же! Впрочем, ты у меня молодец! Ты знаешь, что вот я завтра от вас выеду, и мне все эта голова показываться будет... так ты меня успокой!
-- Помилуйте, ваше высокородие, будьте без сумления-с...
-- Убийство, конечно, вещь обыкновенная, это, можно сказать, каждый день случиться может... а голова! Нет, ты пойми меня, ты вникни в мои усилия! Голова, братец, это, так сказать, центр, седалище...
-- Найдем-с, -- отвечал Живоглот с некоторым ожесточением, как бы думая про себя: "Чтоб тебя прорвало! эк привязался, проклятый!"
-- Впрочем, по уезду благополучно?
-- Благополучно, ваше высокородие, -- ревет Живоглот, раз навсегда закаявшись докладывать его высокородию о чем бы то ни было неблагополучном.
-- Воровства нет?
-- Никак нет-с.
-- Убийств нет?
-- Никак нет-с.
-- То есть, кроме этой головы... Эта, братец, голова, я тебе скажу... голова эта весь сегодняшний день мне испортила... я, братец, Тит; я, братец, люблю, чтоб у меня тово...
Живоглот потупился. В эту минуту он готов был отрезать себе язык за то, что он сболтнул сдуру этакую скверную штуку.
И хоть бы доподлинно эта голова была, думал он, тысячный раз проклиная себя, а то ведь и происшествия-то никакого не было! Так, сдуру ляпнул, чтоб похвастаться перед начальством деятельностью!
-- Ты думаешь, мне это приятно! -- продолжал между тем его высокородие, -- начальству, братец, тогда только весело, когда все довольны, когда все смотрит на тебя с доверчивостью, можно сказать, с упованием...
Молчание.
-- Нет, ты поезжай... ты поезжай! Я не могу! Я спокоен не буду, пока ты в городе.
-- Помещик Перегоренский! -- докладывает Федор. Входит Перегоренский, господин лет шестидесяти, но еще бодрый и свежий. Видно, однако же, что, для подкрепления угасающих сил, он нередко прибегает к напитку, вследствие чего и нос его приобрел все возможные оттенки фиолетового цвета. На нем порыжелый фрак с узенькими фалдочками и нанковые панталонцы без штрипок. При появлении его Алексей Дмитрич прячет обе руки к самым ягодицам, из опасения, чтоб господину Перегоренскому не вздумалось протянуть ему руку.
Перегоренский. Защиты! о защите взываю я к вашему высокородию! Защиты невинным, защиты угнетенным!
Алексей Дмитрич. Что же такое-с?
Перегоренский. Вы извините меня, ваше высокородие! я вне себя! Но я верноподданный, ваше высокородие, я християнин, ваше высокородие! я... человек!
Алексей Дмитрич. Позвольте, однако ж, что же такое случилось? И к чему тут "верноподданный"? Мы все здесь верноподданные-с.
Перегоренский. Не донос... нет, роля доносчика далека от меня! Не с доносом дерзнул я предстать пред лицо вашего высокородия! Чувство сострадания, чувство любви к ближнему одно подвигло меня обратиться к вам: добродетельный царедворец, спаси, спаси погибающую вдову!
Алексей Дмитрич. Но позвольте... мне сказали, что вы здешний помещик... зачем же тут вдова?.. я не понимаю.
Перегоренский (вздыхая). Да-с, я здешний помещик, это правда; я имею, я имею несчастие называться здешним помещиком... У меня семь душ... без земли-с, и только они, одни они поддерживают мое бренное существование!.. Я был угнетен, ваше высокородие! Я был на службе -- и выгнан! Я служил честно -- и вот предстою нищ и убог! Я имел чувствительное сердце и сохранил его до сих пор! За что же терпел я? За что все гонения судьбы на меня? Не за то ли, что любил правду выше всего! Не за то ли, что, можно сказать, ненавидел ложь и истину царям с улыбкой говорил! Защиты! О защите взываю к тебе, покровитель гонимых и угнетенных!
Алексей Дмитрич. Да помилуйте, что же я могу сделать?.. Объяснитесь, пожалуйста!
Перегоренский. Повторяю вашему высокородию: не донос, которого самое название презрительно для моего сердца, намерен я предъявить вам, государь мой! -- нет! Слова мои будут простым извещением, которое, по смыслу закона, обязательно для всякого верноподданного...
Алексей Дмитрич. Но в чем же дело? Позвольте... я занят; мне надобно ехать...
Перегоренский. Коварный Живоглот...
Алексей Дмитрич (строго). Кто же этот Живоглот? Я не понимаю вас; вы, кажется, позволяете себе шутить, милостивый государь мой!
Перегоренский (не слушая его). Коварный Живоглот, воспользовавшись темнотою ночи, с толпою гнусных наемников окружил дом торгующего в селе Чернораменье, по свидетельству третьего рода, мещанина Скурихина, и алчным голосом требовал допустить его к обыску, под предлогом, якобы Скурихин производит торговлю мышьяком. Причем обозвал Скурихина непотребными словами; за оставление же сего дела втайне, взял с него пятьдесят рублей и удалился с наемниками вспять. Это первый пункт.
Алексей Дмитрич. Но где же тут вдова?
Перегоренский. Оный Живоглот, описывая, по указу губернского правления, имение купца Гламидова, утаил некие драгоценные вещи, произнося при этом: "Вещи сии пригодятся ребятишкам на молочишко". При сем равномерно не преминул обозвать Гламидова непотребно... (Пристально смотрит на Алексея Дмитрича, который, в смущении, нюхает табак.) Сей же Живоглот, придя в дом к отставному коллежскому регистратору Рыбушкину, в то время, когда у того были гости, усиленно требовал, для своего употребления, стакан водки и, получив в том отказ, разогнал гостей и хозяев, произнося при этом: аллё машир!
Алексей Дмитрич. Но где же тут вдова?
Перегоренский. Но сим не исполнилась мера бесчинств Живоглотовых. В прошлом месяце, прибыв на ярмонку в село Березино, что на Новом, сей лютый зверь, аки лев рыкаяй и преисполнившись вина и ярости, избил беспричинно всех торгующих, и дотоле не положил сокрушительной десницы своей, доколе не приобрел по полтине с каждого воза... (Торжественно.) На все таковые противозаконные действия исправника Маремьянкина, в просторечии Живоглотом именуемого, и лютостию своею таковое прозвище вполне заслужившего, имеются надлежащие свидетели, которых я, впрочем, к свидетельству под присягой допустить сомневаюсь.
Алексей Дмитрич. Позвольте, однако ж, я все-таки не могу понять, где тут вдова и в какой мере описываемые вами происшествия, или, как вы называете их, бесчинства, касаются вашего лица, и почему вы... нет, воля ваша, я этого просто понять не в состоянии!
Перегоренский. Ваше высокородие! Во мне, в моем лице, видите вы единственное убежище общественной совести, Живоглотом попранной, Живоглотом поруганной. Смени Живоглота, добродетельный царедворец! Смени! вопиют к тебе тысячи жертв его зверообразной лютости!
Алексей Дмитрич. Но как же это... я, право, затрудняюсь... Свидетелей вот вы не допускаете... истцов тоже налицо не оказывается.
Перегоренский (смеется горько и потом вздыхает). Итак, нет правды на земле! Великий господи! зде предстоит раб лукавый и ленивый (указывая на Алексея Дмитрича), который меня же обзывает ябедником и кляузником...
Алексей Дмитрич (тревожно). Позвольте, однако, я не называл вас ни ябедником, ни кляузником!
Перегоренский. Ябедником и кляузником за то единственно, что я принял на себя защиту невинности! (К Алексею Дмитричу.) Государь мой! Необходимость, одна горестная необходимость вынуждает меня сказать вам, что я не премину, при первой же возможности, обратиться с покорнейшею просьбой к господину министру, умолять на коленах его высокопревосходительство... (Запальчиво.) Ты узнаешь, да, ты узнаешь, коварный царедворец, что значит презирать советы добродетели! Вспомянутся тебе и рябчики и рыба, посылаемые Живоглотом, яко дань твоей плотоядности! (Уходит.)
Алексей Дмитрич (минут с пять стоит в некотором отупении, come una statua; [как статуя (итал. )] просыпаясь). Черт знает что такое... Эй, Федор! одеваться!
Между тем дом Желвакова давно уже горит в многочисленных огнях, и у ворот поставлены даже плошки, что привлекает большую толпу народа, который, несмотря ни на дождь, ни на грязь, охотно собирается поглазеть, как веселятся уездные аристократы. Гости уже собрались. Оркестр, состоящий из двух флейт и одного контрбаса, сыгрывается в лакейской, наводя нестерпимое уныние на сердца черноборцев извлекаемыми из флейт жалобными звуками. Сальные свечи в изобилии горят во всех комнатах; однако ж в одной из них, предназначенной, по-видимому, для резиденции почетного гостя, на раскрытом ломберном столе горят даже две стеариновые свечи, которые Дмитрий Борисыч, из экономии, тушит, и потом, послышав на улице движение, вновь зажигает. Девицы, взявшись под руку, вереницей ходят по зале, предназначенной для танцевания. Увивающийся около них протоколист дворянской опеки, должно быть, говорит ужасно смешные вещи, потому что девицы беспрестанно закрывают свои личики платками. В тревожном ожидании проходит два часа, в продолжение которых все бездействуют. Некоторые дамы начинают даже выказывать знаки нетерпения. В особенности отличается жена окружного начальника, курящая папиросы и составляющая в уезде постоянную оппозицию.
-- Да помилуйте, Дмитрий Борисыч! -- говорит она громко, -- долго ли же нам дожидаться! Ведь нам-то он даже почти не начальник!
-- Уж сделайте ваше одолжение, Степанида Карповна! повремените крошечку-с! Михайло Трофимыч! уговорите Степаниду Карповну! -- умоляет Дмитрий Борисыч.
-- StИphanie, mon ange! -- говорит Михайло Трофимыч, -- il faut donc faire quelque chose pour ces gens-lЮ [Стефания, мой ангел! надо же что-нибудь сделать для этих людей (франц.)].
-- Однако ж, Michel! -- отвечает Степанида Карповна.
В это время жена уездного судьи, не выражавшая доселе никаких знаков неудовольствия, считает возможным, в знак сочувствия к Степаниде Карповне, пустить в ход горькую улыбку, давно созревшую в ее сердце. Но Дмитрий Борисыч ловит эту улыбку, так сказать, на лету.
-- Ну, вы-то что? -- говорит он судейше, -- ну, Степанида Карповна... это точно! а вы-то что?
И, махнув рукой, бежит дальше.
Однако же Дмитрий Борисыч далеко не спокоен. Два обстоятельства гложут его сердце. Во-первых, известно ему, что у его высокородия в настоящее время пропекается Перегоренский. "Опакостит он, опакостит нас всех, бестия!" -- думает Дмитрий Борисыч. Во-вторых, представляется весьма важный вопрос: будет ли его высокородие играть в карты, и если не будет, то каким образом занять ихнюю особу? Партию Для его высокородия он уж составил, и партию приличную: Михайло Трофимыч Сюртуков, окружной начальник, молодой человек, образованный и с направлением; асессор палаты, Кшепшицюльский, тоже образованный и с направлением, и, наконец, той же палаты чиновник особых поручений Пшикшецюльский, не столько образованный, сколько с направлением. Все они согласны играть во что угодно и по скольку угодно.
-- Господи! кабы не было хозяйственных управлений, -- говорит про себя Дмитрий Борисыч, -- пропала бы моя головушка!
И, второпях, с размаху останавливается перед уездным судьей, скромно сидящим в углу, и, задумавшись, рассуждает во всеуслышание:
-- Что, если бы всё этакие-то были! Вон он какой убогой! нищему даже подать нечего!
-- Нет! куда нам! -- говорит, махая руками, судья, который, от старости, недослышит, и думает, что Дмитрий Борисыч приглашает его составить партию для высокоименитого гостя.
Но вот вламывается в дверь Алексеев и изо всей мочи провозглашает: "Левизор! левизор едет!" Дмитрий Борисыч дрожащими руками зажигает стеариновые свечи, наскоро говорит музыкантам: "Не осрамите, батюшки!" -- и стремглав убегает на крыльцо.
Его высокородие входит при звуках музыки, громко играющей туш. Его высокородие смотрит милостиво и останавливается в зале. Дмитрий Борисыч, скользящий около гостя боком, простирает руку в ту сторону, где приготовлена обитель для его высокородия, и торопливо произносит:
-- Сюда пожалуйте, сюда, ваше высокородие!
-- Зачем же? мне и здесь хорошо! -- говорит его высокородие, окидывая дам орлиным взором, -- а впрочем, делай со мною что хочешь! Извините меня, mesdames, -- я здесь невольник!
И, шаркнувши ножкой, мелкими шагами удаляется в обитель, в дверях которой встречает его сама городничиха, простая старуха, с платком на голове.
-- Пожалуйте, ваше превосходительство, пожалуйте, не побрезгуйте! -- говорит она, низко кланяясь.
-- Извините, сударыня! я еще только "высокородие"! -- отвечает Алексей Дмитрич и скромно потупляет глаза.
Его высокородие садится на приуготовленном диване; городничиха в ту же минуту скрывается; именитейшие мужи города стоят но стене и безмолвствуют. Его высокородию, очевидно, неловко.
-- Прикажете начинать музыке? -- спрашивает Дмитрий Борисыч.
-- Как же, как же! -- отвечает его высокородие. Музыка играет; до слуха его высокородия достигает только треск контрбаса.
-- Да ты тут и музыку завел! -- замечает его высокородие, -- это похвально, господин Желваков! это ты хорошо делаешь, что соединяешь общество! Я это люблю... чтоб у меня веселились...
-- Все силы-меры, ваше высокородие... то есть, сколько стаёт силы-возможности, -- отвечает Дмитрий Борисыч.
Молчание.
-- А вы, господа, разве не танцуете? -- спрашивает Алексей Дмитрич, поводя глазами по стене.
Именитые чины, принимая эти слова в смысле приглашения выйти из комнаты, гурьбой направляются в залу. Его высокородие несколько озадачен.
-- Что ж это они? -- говорит он, хмуря брови, -- разве мое общество... кажется, я тово...
Дмитрий Борисыч, в совершенном отчаянье, спешит догнать беглецов.
-- Ну, куда же вы, ради Христа? куда вы! -- говорит он умоляющим голосом, -- Михайло Трофимыч! Мечислав Станиславич! Станислав Мечиславич! хоть вы! хоть вы! ведь это скандал-с! это, можно сказать, неприличие!
Но именитые лица упорствуют. Дмитрий Борисыч вновь прибегает в обитель.
-- Ваше высокородие! не соблаговолите ли в карточки?
Алексей Дмитрич затруднен.
-- Я... да... я тово... но, право, я не могу придумать, с кем же ты меня... -- говорит он.
-- На этот счет будьте покойны, ваше высокородие! партия -- самая благородная: всё губернские-с...
-- Ну да... если партия приличная... отчего же... Один из партнеров, Михаил Трофимыч, поспешно
распечатывает карты и весьма развязно подлетает к его высокородию.
-- Votre Excellence! [Ваше превосходительство! (франц.)] -- говорит он, подавая карточку.
-- Mais... vous parlez franГais? [А... вы говорите по-французски? (франц.)] -- замечает его высокородие с приятным изумлением.
-- Они обучались в университете, -- вступается Дмитрий Борисыч, -- ихняя супруга первая дама в городе-с.
-- А! очень приятно! J'espХre que vous me ferez l'honneur... [Я надеюсь, что вы окажете мне честь... (франц.)] очень, очень приятно!
Между тем танцы в зале происходят обыкновенным порядком. Протоколист дворянской опеки превосходит самого себя: он танцует и прямо и поперек, потому что дам вдвое более, нежели кавалеров, и всякой хочется танцевать. Следовательно, кавалеры обязаны одну и ту же фигуру кадрили попеременно отплясывать с двумя разными дамами.
-- Фу, упарился! -- говорит протоколист, обтирая платком катящиеся по лбу струи пота, -- Дмитрий Борисыч! хоть бы вы водочкой танцоров-то попотчевали! ведь это просто смерть-с! Этакого труда и каторжники не претерпевают!
-- И ни-ни! -- отвечает Дмитрий Борисыч, махая руками, -- что ты! что ты! ты, пожалуй, опять по-намеднишнему налижешься! Вот уедет его высокородие -- тогда хоть графин выпей... Эй, музыканты!
Музыка трогается, но танцоров урезонить не легко. Они становятся посреди залы в каре, устроивают между собой совет и решают не танцевать, покуда не будет выполнено справедливое требование протоколиста.
-- Что ж это за страм такой! хоть бы прохладительное какое-нибудь подали! -- говорит протоколист.
-- Не танцуй, братцы, да и баста! -- подсказывает муж совета Петька Трясучкин.
-- Не хотим танцевать! -- раздается общий отголосок.
Происходит смятение. Городничиха поспешает сообщить своему мужу, что приказные бунтуются, требуют водки, а водки, дескать, дать невозможно, потому что вот еще намеднись, у исправника, столоначальник Подгоняйчиков до того натенькался, что даже вообразил, что домой спать пришел, и стал при всех раздеваться.
Дмитрий Борисыч выбегает увещевать.
-- Бога вы не боитесь, свиньи вы этакие! -- говорит он, -- знаете сами, какая у нас теперича особа! Нешто жалко мне водки-то, пойми ты это!.. Эй, музыканты!
-- Да нет; танцевать совсем невозможно... нам что водка-с! а совсем нам танцевать невозможно-с!
-- Да почему же невозможно?
-- Да так-с... оченно уж труд велик-с...
-- Господи! Иван Перфильич! и ты-то! голубчик! ну, ты умница! Прохладись же ты хоть раз, как следует образованному человеку! Ну, жарко тебе -- выпей воды, иль выдь, что ли, на улицу... а то водки! Я ведь не стою за нее, Иван Перфильич! Мне что водка! Христос с ней! Я вам всем завтра утром по два стаканчика поднесу... ей-богу! да хоть теперь-то ты воздержись... а! ну, была не была! Эй, музыканты!
На этот раз убеждения подействовали, и кадриль кой-как составилась. Из-за дверей коридора, примыкавшего к зале, выглядывали лица горничных и других зрителей лакейского звания, впереди которых, в самой уже зале, стоял камердинер его высокородия. Он держал себя, как и следует камердинеру знатной особы, весьма серьезно, с прочими лакеями не связывался и, заложив руки назад, производил глубокомысленные наблюдения над танцующим уездом.
-- Ну, а что, Федя, ведь и мы веселиться умеем? -- спрашивал Дмитрий Борисыч, изредка забегая к нему.
-- Веселиться -- отчего не веселиться! -- отвечал Федор.
-- Ну, а как, Федя, против ваших-то балов: наш, поди, никуда, чай, не годится?
-- Да, против наших... разумеется... а впрочем, мне ваш больше нравится... проще!
-- Ты, Федя, добрый! Приходи ужо, я тебе полтинничек пожертвую... а чай пил?
-- Пил-с, благодарим покорно.
-- Ты, братец, требуй... знаешь, без церемоний... распорядись сам, коли чего захочется... леденчиков там, икорки, балычку... тебе, братец, отказу не будет...
В начале пятой фигуры в гостиной послышался шум, вскоре затем сменившийся шушуканьем. В дверях залы показался сам его высокородие. Приближался страшный момент, момент, в который следовало делать соло пятой фигуры. Протоколист, завидев его высокородие, решительно отказался выступать вперед и хотел оставить на жертву свою даму. Произошло нечто вроде борьбы, причинившей между танцующими замешательство. Дмитрий Борисыч бросился в самый пыл сражения.
-- Ну, полно же, братец, иди! -- увещевал он заартачившегося протоколиста, -- ведь его высокородие смотрит...
Но протоколист ни с места: и не говорит ни слова, и вперед не идет, словно ноги у него приросли к полу.
-- Обробел, ваше высокородие! -- восклицает Желваков, перебегая к Алексею Дмитричу, -- они у нас непривычны-с... всего пугаются.
-- Отчего же? -- говорит Алексей Дмитрич, -- я, кажется, не страшен! Нехорошо, молодой человек! Я люблю, чтоб у меня веселились... да!
И удаляется в обитель, чтоб не мешать общему веселью.
-- А у меня сегодня был случай! -- говорит Алексей Дмитрич, обращаясь к Михайле Трофимычу, который, как образованный человек, следит шаг за шагом за его высокородием, -- приходит ко мне Маремьянкин и докладывает, что в уезде отыскано туловище... и как странно! просто одно туловище, без головы! Imaginez vous cela! [Вообразите себе! (франц.)]
-- Сс! -- произносит Дмитрий Борисыч, покачивая головой.
-- Но вот что в особенности меня поразило, -- продолжает его высокородие, -- это то, что эту голову нигде не могут найти! даже Маремьянкин! Vous savez, c'est un coquin pour ces choses-lЮ! [Вы знаете, он ведь мастак в этих делах! (франц.)]
-- Сс! -- произносит опять Желваков.
-- Но я, однако, принял свои меры! Я сказал Маремьянкину, что знать ничего не хочу, чтоб была отыскана голова! Это меня очень-очень огорчило! гa ma bouleversХ! [Это меня потрясло! (франц.)] Я, знаете, тружусь, забочусь... и вдруг такая неприятность! Головы найти не могут! Да ведь где же нибудь она спрятана, эта голова! Признаюсь, я начинаю колебаться в мнении о Маремьянкине; я думал, что он усердный, -- и что ж!
Бьет одиннадцать часов; его высокородие берется за шляпу. Дмитрий Борисыч в отчаянье.
-- Ваше высокородие! осчастливьте! не откажите перекусить! -- умоляет он, в порыве преданности почти осмеливаясь прикасаться к руке его высокородия.
Алексей Дмитрич видимо тронут. Но вместе с тем воля его непреклонна. "У него болит голова", "он так много сегодня работал", "завтра ему надо рано выехать", и притом "этот Маремьянкин с своею головой"...
-- Спасибо, господин Желваков, спасибо! -- говорит его высокородие, -- это ты хорошо делаешь, что стараешься соединить общество! Я буду иметь это в виду, господин Желваков!
И удаляется медленным шагом из обители.
Подсадивши как следует его высокородие в экипаж, Дмитрий Борисыч возвращается в зал и долго-долго жмет обе руки Михайле Трофимычу.
-- Благодарю! -- говорит он, растроганный до слез, -- благодарю! если б не вы. Эй, водки! -- восклицает он совершенно неожиданно.
Ночь. В доме купчихи Облепихиной замечается лишь тусклое освещение. Алексей Дмитрич уж раздет, и Федор снимает с него сапоги.
-- Ну, а помнишь ли, Федор, как мы в Петербурге-то бедствовали? -- спрашивал Алексей Дмитрич.
-- Как не помнить? такое дело разве позабыть можно? -- отвечает Федор угрюмо.
-- Помнишь ли, как мы в Мещанской, в четвертом-то этаже, горе мыкали?
Федор трясет головой.
-- У кухмистера за шесть гривен обед бирали, и оба сыты бывали? -- продолжает Алексей Дмитрич, -- а ждал ли ты, гадал ли ты в то время, чтоб вот, например, как теперича... стоит перед тобой городничий -- слушаю-с; исправник к тебе входит -- слушаю-с; судья рапортует -- слушаю-с... Так вот, брат, мы каковы!
-- Это точно, что во сне не гадал.
-- То-то же!
-- Хорошо-то оно хорошо, -- говорит Федор, -- да одно вот, сударь, не ладно.
-- А что такое?
-- Да вот Кшецу-то эту (Кшецынского) выгнать бы со двора следовало.
-- Опять ты... тово...
-- Да нечего "тово", а продаст он вас, сударь.
-- Что ты вздор-то городишь! только смущаешь, дурак!
-- Мне зачем смущать! я не смущаю! Я вот только знаю, что Кшеца эта шестьсот шестьдесят шесть означает... ну, и продаст он вас...
мои знакомцы
ОБМАНУТЫЙ ПОДПОРУЧИК
Дело было весною, а в тот год весна была ранняя. Уже в начале марта полились с гор ручьи и прилетели грачи, чего и старожилы в Крутогорской губернии не запомнят. Время это самое веселое; вид возрождающейся природы благотворно действует на самого сонливого человека; все принимает какой-то необычный, праздничный оттенок, все одевается радужными цветами. В деревнях на улице появляется грязь; ребятишки гурьбами возятся по дороге и везде, где под влиянием лучей солнца образовалась вода; старики также выползают из душных изб и садятся на завалинах погреться на солнышке. Вообще, все довольны, все рады весне и теплу, потому что в зимнее время изба, наполненная какою-то прогорклою атмосферой, наводит уныние даже на привыкшего к ней мужичка.
Однако путешествовать в это время, и особливо по экстренной надобности, -- сущее наказание. Дорога уже испортилась; черная, исковерканная полоса ее безобразным горбом выступает из осевшего по сторонам снега; лошади беспрестанно преступаются, и потому вы волею-неволею должны ехать шагом; сверх того, местами попадаются так называемые зажоры, которые могут заставить вас простоять на месте часов шесть и более, покуда собьют окольный народ, и с помощью его ваша кибитка будет перевезена или, правильнее, перенесена на руках по ту сторону колодца, образовавшегося посреди дороги. Это штука самая скверная; тут припомнишь всех, кого следует, и всех мысленно по-родственному обласкаешь. Не радуют сердца ни красоты природы, ни шум со всех сторон стремящихся водных потоков; напротив того, в душе поселяется какое-то тупое озлобление против всего этого: так бы, кажется, взял да и уехал, а уехать-то именно и нельзя.
Ночью в такую пору ехать решительно невозможно; поэтому и бывает, что отъедешь в сутки верст с сорок, да и славословишь остальное время имя господне на станции.
Подобную муку пришлось испытать и мне. Промаявшись, покуда было светло, в бесплодной борьбе со стихиями, я приехал наконец на станцию, на которой предстояло мне ночевать. В подобных обстоятельствах станционный домик, одиноко стоящий немного поодаль дороги, за деревьями, составляет истинную благодать. Уехал, кажется, всего верст сорок или пятьдесят, а истомеешь, отупеешь и раскиснешь так, как будто собственными своими благородными ногами пробежал верст полтораста. Разумеется, первое дело самовар, и затем уже является на стол посильная, зачерствевшая от времени закуска, и прилаживается складная железная кровать, без которой в Крутогорской губернии путешествовать так же невозможно, как невозможно быть станционному дому без клопов и тараканов.
На этот раз на станции оказался какой-то проезжий, что меня и изумило и огорчило. Огорчило потому, что мы, коренные крутогорцы, до такой степени привыкли к нашему безмятежному захолустью, что появление проезжего кажется нам оскорблением и посягательством на наше спокойствие. Кроме того, есть еще тайная причина, объясняющая наше нерасположение к проезжему народу, но эту причину я могу сообщить вам только под величайшим секретом: имеются за нами кой-какие провинности, и потому мы до смерти не любим ревизоров и всякого рода любопытных людей, которые любят совать свой нос в наше маленькое хозяйство. Мы рассуждаем в этом случае так: губерния Крутогорская хоть куда; мы тоже люди хорошие и, к тому же, приладились к губернии так, что она нам словно жена; и климат, и все, то есть и то и другое, так хорошо и прекрасно, и так все это славно, что вчуже даже мило смотреть на нас, а нам-то, пожалуй, и умирать не надо! Охота же какому-нибудь -- прости господи! -- кобелю борзому нарушать это трогательное согласие!
Проезжий оказывался нрава меланхолического. Он то и дело ходил по комнате, напевая известный романс "Уймитесь, волнения страсти". Но страсти, должно полагать, не унимались, потому что когда дело доходило до "я пла-а-чу, я стрра-а-жду!", то в голосе его происходила какая-то удивительнейшая штука: словно и ветер воет, и в то же время сапоги скрипят до истомы. Этой штуки мне никогда впоследствии не приходилось испытывать; но помню, что в то время она навела на меня уныние. Замечательно было также то обстоятельство, что слова "плачу" и "стражду" безотменно сопровождались возгласом: "Эй, Прошка, водки!", а как проезжий пел беспрестанно, то и водки, уповательно, вышло немалое количество.
Однако ж я должен сознаться, что этот возглас пролил успокоительный бальзам на мое крутогорское сердце; я тотчас же смекнул, что это нашего поля ягода. Если и вам, милейший мой читатель, придется быть в таких же обстоятельствах, то знайте, что пьет человек водку, -- значит, не ревизор, а хороший человек. По той причине, что ревизор, как человек злющий, в самом себе порох и водку содержит.
-- Милостивый государь! милостивый государь... мой! -- раздалось за перегородкой.
Воззвание, очевидно, относилось ко мне.
-- Что прикажете?
-- Не соблаговолите ли допустить побеседовать? тоска смертнейшая-с!
-- С величайшим удовольствием.
Вслед за сим в мою комнату ввалилась фигура высокого роста, в дубленом овчинном полушубке и с огромными седыми усами, опущенными вниз. Фигура говорила очень громким и выразительным басом, сопровождая свои речения приличными жестами. Знаков опьянения не замечалось ни малейших.
-- Рекомендуюсь! рекомендуюсь! "Блудный сын, или Русские в 18** году"...
-- Очень рад познакомиться.
-- Да-с; это так, это точно, что блудный сын -- черт побери! Жизнь моя, так сказать, рраман и рраман не простой, а этак Рафаила Михайлыча Зотова, с танцами и превращениями и великолепным фейерверком -- на том стоим-с! А с кем я имею удовольствие беседовать?
Я назвал себя.
-- Так-с; ну, а я отставной подпоручик Живновский... да-с! служил в полку -- бросил; жил в имении -- пропил! Скитаюсь теперь по бурному океану жизни, как челн утлый, без кормила, без весла...
Я стрра-ажду, я пла-ачу!
Заспанный Прошка стремительно, как угорелый, вбежал с полштофом водки и стаканом в руках и спросонья полез прямо в окно.
-- Куда? ну, куда лезешь? -- завопил Живновский, -- эко рыло! мало ты спишь! очумел, скатина, от сна! Рекомендую! -- продолжал он, обращаясь ко мне. -- Раб и наперсник! единственный обломок древней роскоши! хорош?
Прошка глядел на нас во все глаза и между тем, очевидно, продолжал спать.
-- Хорош? рожа-то, рожа-то! да вы взгляните, полюбуйтесь! хорош? А знаете ли, впрочем, что? ведь я его выдрессировал -- истинно вам говорю, выдрессировал! Теперь он у меня все эти, знаете, поговорки и всякую команду -- все понимает; стихи даже французские декламирует. А ну, Проша, потешь-ка господина!
Прошка забормотал что-то себе под нос скороговоркой. Я мог разобрать только припев: се мистигрис ке же ле номме, се мистигрис, се мистигрис.
-- А! каков каналья! это ведь, батюшка, Беранже! Два месяца, сударь, с ним бился, учил -- вот и плоды! А приятный это стихотворец Беранже! Из русских, я вам доложу, подобного ему нет! И все, знаете, насчет этих деликатных обстоятельств... бестия!
Живновский залпом выпил стакан водки.
-- Ну, теперь марш! можешь спать! да смотри, у меня не зевать -- понимаешь?
Прошка вышел. Живновский вынул из кармана засаленный бумажник, положил его на стол и выразительно хлопнул по нем рукой.
-- Изволите видеть? -- сказал он мне.
-- Вижу.
-- Ну-с, так вот здесь все мои капиталы!.. То есть, кроме тех, которые хранятся вот в этом ломбарде!
Он указал на голову.
-- Немного-с! всего-то тут на все пятьдесят целкачей... и это на всю, сударь, жизнь!
Он остановился в раздумье.
-- Дда-с; это на всю жизнь! -- сказал он торжественно и с расстановкой, почти налезая на меня, -- это, что называется, на всю жизнь! то есть, тут и буар, и манже, и сортир!.. дда-с; не красна изба углами, а впрочем, и пирогов тут не много найдется... хитро-с!
Он начал шагать по комнате.
-- А уж чего, кажется, я не делал! Телом торговал-с! собственным своим телом -- вот как видите... Не вывезла! не вывезла шельма-кривая!
Молчание.
-- Вот-с хоть бы насчет браку! чем не молодец -- во всех статьях! однако нет!.. Была вдова Поползновейкина, да и та спятила: "Ишь, говорит, какие у тебя ручищи-то! так, пожалуй, усахаришь, что в могилу ляжешь!" Уж я каких ей резонов не представлял: "Это, говорю, сударыня, крепость супружескую обозначает!" -- так куда тебе! Вот и выходит, что только задаром на нее здоровье тратил: дала вот тулупчишку да сто целковых на дорогу, и указала дверь! А харя-то какая, если б вы знали! точно вот у моего Прошки, словно антихрист на ней с сотворения мира престол имел!
Живновский плюнул.
-- А не то вот Топорков корнет: "Слышал, говорит, Сеня, англичане миллион тому дают, кто целый год одним сахаром питаться будет?" Что ж, думаю, ведь канальская будет штука миллиончик получить! Ведь это выходит не много не мало, а так себе взял да на пряники миллиончик и получил! А мне в ту пору смерть приходилась неминучая -- всё просвистал! И кроме того, знаете, это у меня уж идея такая -- разбогатеть. Ну-с, и полетел я сдуру в Петербург. Приехал; являюсь к посланнику: "Так и так, говорю, вызывались желающие, а у меня, мол, ваше превосходительство, желудок настоящий, русский-с"... Что ж бы вы думали? перевели ему это -- как загогочет бусурманишка! даже обидно мне стало; так, знаете, там все эти патриотические чувства вдруг и закипели.
-- Да, это действительно обидно.
-- Но, однако ж, воротясь, задал-таки я Сашке трезвону: уповательно полагать должно, помнит и теперь... Впрочем, и то сказать, я с малолетства такой уж прожектер был. Голова, батюшка, горячая; с головой сладить не могу! Это вот как в критиках пишут, сердце с рассудком в разладе -- ну, как засядет оно туда, никакими силами оттуда и не вытащишь: на стену лезть готов!
-- А теперь что же вы располагаете делать?
-- Теперь? ну, теперь-то мы свои делишки поправим! В Крутогорск, батюшка, едем, в Крутогорск! в страну, с позволения сказать, антропофагов, страну дикую, лесную! Нога, сударь, человеческая там никогда не бывала, дикие звери по улицам ходят! Вот-с мы с вами в какую сторонушку запропастились!
Живновский в увлечении, вероятно, позабыл, что перед ним сидит один из смиренных обитателей Крутогорска. Он быстрыми шагами ходил взад и вперед по комнате, потирая руки, и физиономия его выражала нечто плотоядное, как будто в самом деле он готов был живьем пожрать крутогорскую страну.
-- Спасибо Сашке Топоркову! спасибо! -- говорил он, очевидно забывая, что тот же Топорков обольстил его насчет сахара. -- "Ступай, говорит, в Крутогорск, там, братец, есть винцо тенериф -- это, брат, винцо!" Ну, я, знаете, человек военный, долго не думаю: кушак да шапку или, как сказал мудрец, omnia me cum me [Все свое ношу с собою (от искаженного лат. omnia mea mecum porto)]... зарапортовался! ну, да все равно! слава богу, теперь уж недалечко и до места.
-- Однако ж я все-таки не могу сообразить, на что же вы рассчитываете?
-- На что? -- спросил он меня с некоторым изумлением, вдруг остановясь передо мной, -- как на что? Да вы, батюшка, не знаете, что такое Крутогорск! Крутогорск -- это, я вам доложу, сторона! Там, знаете, купец -- борода безобразнейшая, кафтанишка на нем весь оборванный, сам нищим смотрит -- нет, миллионщик, сударь вы мой, в сапоге миллионы носит! Ну, а нам этих негоциантов, что в кургузых там пиджаках щеголяют да тенерифцем отделываются, даром не надобно! Это не по нашей части! Нам подавай этак бороду, такую, знаете, бороду, что как давнул ее, так бы старинные эти крестовики да лобанчики из нее и посыпались -- вот нам чего надобно!.. А знаете, не хватить ли нам желудочного? -
Я пла-ачу, я стра-ажду!
Но Прошка не являлся. Живновский повторил свой припев уже с ожесточением. Прошка явился.
-- Что ж ты, шутить, что ли, собачий сын, со мной вздумал? -- возопил Живновский, -- службу свою забыл! Так я тебе ее припомню, ска-атина!
Он распростер свою длань и совершенно закрыл ею лицо ополоумевшего раба.
-- Драться я, доложу вам, не люблю: это дело ненадежное! а вот помять, скомкать этак мордасы -- уж это наше почтение, на том стоим-с. У нас, сударь, в околотке помещица жила, девица и бездетная, так она истинная была на эти вещи затейница. И тоже бить не била, а проштрафится у ней девка, она и пошлет ее по деревням милостыню сбирать; соберет она там куски какие -- в застольную: и дворовые сыты, и девка наказана. Вот это, сударь, управление! это я называю управлением.
Он выпил.
-- Знаете ли, однако ж, -- сказал он, -- напиток-то ведь начинает забирать меня -- как вы думаете?
Я согласился.
-- Стара стала, слаба стала! Шли мы, я помню, в восемьсот четырнадцатом, походом -- в месяц по четыре ведра на брата выходило! Ну-с, четырежды восемь тридцать два -- кажется, лопнуть можно! -- так нет же, все в своем виде! такая уж компания веселая собралась: всё ребята были теплые!
На станционных часах пробило десять. Я зевнул.
-- Да вы постойте, не зевайте! Я вам расскажу, был со мной случай. Был у меня брат, такой брат, что днем с огнем не сыщешь -- душа! Служил он, сударь, в одном полку с некоим Перетыкиным -- так, жалконький был офицеришка. Вот только и поклялись они промеж себя, в счастье ли, в несчастье ли, вывозить друг друга. Брат вышел в отставку, а Перетычка эта полезла в гору, перешла, батюшка, к штатским делам и дослужилась там до чинов генеральских. В двадцатых годах, как теперь помню, пробубнился я жесточайшим манером -- штабс-капитан Терпишка в пух обыграл! -- натурально, к брату. Вот и припомнил он, что есть у него друг и приятель Перетыкин: "Он, говорит, тебя пристроит!" Пишет он к нему письмо, к Перетычке-то: "Помнишь ли, дескать, друг любезный, как мы с тобой напролет ночи у метресс прокучивали, как ты, как я... помоги брату!" Являюсь я в Петербург с письмом этим прямо к Перетыкину. Принял он меня, во-первых, самым, то есть, безобразнейшим образом: ни сам не садится, ни мне не предлагает. Прочитал письмо. "А кто это, говорит, этот господин Живновский?" -- и так, знаете, это равнодушно, и губы у него такие тонкие -- ну, бестия, одно слово -- бестия!.. "Это, говорю, ваше превосходительство, мой брат, а ваш старинный друг и приятель!" -- "А, да, говорит, теперь припоминаю! увлечения молодости!.." Ну, доложу вам, я не вытерпел! "А вы, говорю, ваше превосходительство, верно и в ту пору канальей изволили быть!.." Так и ляпнул. Что ж бы вы думали? Он же на меня в претензии: зачем, дескать, обозвал его! Молчание.
-- И вот все-то я так маюсь по белу свету. Куда ни сунусь, везде какая-нибудь пакость... Ну, да, слава богу, теперь, кажется, дело на лад пойдет, теперь я покоен... Да вы-то сами уж не из Крутогорска ли?
-- Да.
-- Так-с; благодатная это сторона! Чай, пишете, бумагу переводите! Ну, и здесь, -- прибавил он, хлопая себе по карману, -- полагательно, толстушечка-голубушка водится!
-- Ну, разумеется.
-- Так-с, без этого нельзя-с. Вот и я тоже туда еду; бородушек этих, знаете, всех к рукам приберем! Руки у меня, как изволите видеть, цепкие, а и в писании сказано: овцы без пастыря -- толку не будет. А я вам истинно доложу, что тем эти бороды мне любезны, что с ними можно просто, без церемоний... Позвал он тебя, например, на обед: ну, надоела борода -- и вон ступай.
-- По крайней мере, имеете ли вы к кому-нибудь рекомендацию в Крутогорск?
-- Ре-ко-мен-да-цию! А зачем, смею вас спросить, мне рекомендация? Какая рекомендация? Моя рекомендация вот где! -- закричал он, ударя себя по лбу. -- Да, здесь она, в житейской моей опытности! Приеду в Крутогорск, явлюсь к начальству, объясню, что мне нужно... ну-с, и дело в шляпе... А то еще рекомендация!.. Эй, водки и спать! -- прибавил он совершенно неожиданно.
И он побрел, пошатываясь, восвояси.
На другой день, когда я проснулся, его уже не было; станционный писарь сообщил мне, что он уехал еще затемно и все спешил: "Мне, говорит, пора; пора, брат, и делишки свои поправить". Показывал также ему свой бумажник и говорил, что "тут, брат, на всю жизнь; с этим, дружище, широко не разгуляешься!.."
Прошло месяца два; я воротился из командировки и совсем забыл о Живновском, как вдруг встретил его, в одно прекрасное утро, на улице.
-- Ба! ну, как дела?
Подпоручик смотрел не весело; на нем висела шинель довольно подозрительного свойства, а сапоги были, очевидно, не чищены с самого приезда в Крутогорск.
-- Надул Сашка! -- проворчал он угрюмо.
-- Чем же вы живете?
-- А вот лотереи разыгрываем... намеднись Прошку на своз продал, и верите ли, бестия даже обрадовался, как я ему объявил.
-- Ну, а являлись ли вы, как предполагали?
Он махнул рукой и пошел дальше.
Однако ж я мог расслышать, как он ворчал: "Ну, задам же я тебе звону, бестия Сашка! дай только выбраться мне отсюда".
И тем не менее вы и до сих пор, благосклонный читатель, можете встретить его, прогуливающегося по улицам города Крутогорска и в особенности принимающего деятельное участие во всех пожарах и других общественных бедствиях. Сказывают даже, что он успел приобрести значительный круг знакомства, для которого неистощимым источником наслаждений служат рассказы о претерпенных им бедствиях и крушениях во время продолжительного плавания по бурному морю житейскому.
ПОРФИРИЙ ПЕТРОВИЧ
Человек, казенных денег не расточающий, свои берегущий, чужих не желающий.
Если вы не знакомы с Порфирием Петровичем, то советую как можно скорее исправить эту опрометчивость. Его уважает весь город, он уже двадцать лет старшиною благородного собрания, и его превосходительство ни с кем не садится играть в вист с таким удовольствием, как с Порфирием Петровичем.
Не высок он ростом, а между тем всякое телодвижение его брызжет нестерпимым величием. Баталионный командир, охотно отдающий справедливость всему великому, в заключение своих восторженных панегириков об нем всегда прибавляет: "Как жаль, что Порфирий Петрович ростом не вышел: отличный был бы губернатор!" Нельзя сказать также, чтоб и во всей позе Порфирия Петровича было много грации; напротив того, весь он как-то кряжем сложен; но зато сколько спокойствия в этой позе! сколько достоинства в этом взоре, померкающем от избытка величия!
Когда он протягивает вам руку, вы ощущаете, что в вашей руке заключено нечто неуловимое; это не просто рука, а какое-то блаженство или, лучше сказать, благоухание, принявшее форму руки. И не то чтобы он подал вам какие-нибудь два пальца или же сунул руку наизнанку, как делают некоторые, -- нет, он подает вам всю руку, как следует, ладонь на ладонь, но вы ни на минуту не усумнитесь, что перед вами человек, который имел бы полное право подать вам один свой мизинец. И вы чувствуете, что уважение ваше к Порфирию Петровичу возрастает до остервенения.
В суждениях своих, в особенности о лицах, Порфирий Петрович уклончив; если иногда и скажет он вам "да", то вы несомненно чувствуете, что здесь слышится нечто похожее на "нет", но такое крошечное "нет", что оно придает даже речи что-то приятное, расслабляющее. Он не прочь иногда пошутить и сострить, но эта шутка никого не компрометирует; напротив того, она доказывает только, что Порфирий Петрович вполне благонамеренный человек: и мог бы напакостить, но не хочет пользоваться своим преимуществом. Он никого, например, не назовет болваном или старым колпаком, как делают некоторые обитатели пустынь, не понимающие обращения; если хотите, он выразит ту же самую мысль, но так деликатно, что вместо "болвана" вы удобно можете разуметь "умница", и вместо "старого колпака" -- "почтенного старца, украшенного сединами".
Когда говорят о взятках и злоупотреблениях, Порфирий Петрович не то чтобы заступается за них, а только переминается с ноги на ногу. И не оттого, чтоб он всею душой не ненавидел взяточников, а просто от сознания, что вообще род человеческий подвержен слабостям.
Порфирий Петрович не поет и не играет ни на каком инструменте. Однако все чиновники и все знакомые его убеждены, что он мог бы и петь и играть, если б только захотел. Он охотно занимается литературой, больше по части повествовательной, но и тут отдает преимущество повестям и романам, одолженным своим появлением дамскому перу, потому что в них нет ничего "этакого". "Дама, -- говорит он при этом, -- уж то преимущество перед мужчиной имеет, что она, можно сказать, розан и, следовательно, ничего, кроме запахов, издавать не может".
Говорят, будто у Порфирия Петровича есть деньги, но это только предположение, потому что он ими никого никогда не ссужал. Однако, как умный человек, он металла не презирает, и в душе отдает большое предпочтение тому, кто имеет, перед тем, кто не имеет. Тем не менее это предпочтение не выражается у него как-нибудь нахально, и разве некоторая томность во взгляде изобличит внутреннюю тревогу души его.
Очень великолепен Порфирий Петрович в мундире, в те дни, когда у губернатора бывает прием, и после того в соборе. Тут самый рост его как-то не останавливает ничьего внимания, и всякий благонамеренный человек необходимо должен думать, что такой, именно такой рост следует иметь для того, чтоб быть величественным. Одно обстоятельство сильно угрызает его -- это отсутствие белых брюк. Не ездил ли он верхом на Константине Владимирыче, не оседлал ли, не взнуздал ли он его до такой степени, что несчастный старец головой пошевелить не может? и между тем! -- о несправедливость судеб! -- Константин Владимирыч носит белые брюки, и притом так носит, как будто они у него пестрые, а он, Порфирий Петрович, вечно осужден на черный цвет.
Не менее величествен Порфирий Петрович и на губернских балах, в те минуты, когда все собравшиеся не осмеливаются приступить ни к каким действиям в ожидании его превосходительства. Он ласково беседует со всеми, не роняя, однако же, своего достоинства и стараясь прильнуть к губернским тузам. Когда входит его превосходительство, глаза Порфирия Петровича выражают тоску и как будто голод; и до той поры он, изнемогая от жажды, чувствует себя в степи Сагаре, покуда его превосходительство не приблизится к нему и не пожмет его руки. После этого акта Порфирий Петрович притопывает ножкой и, делая грациозный поворот на каблуках, устремляется всею сущностью к карточному столу, для составления его превосходительству приличной партии. За карточным столом Порфирий Петрович не столько великолепен, сколько мил; в целой губернии нет такого приятного игрока: он не сердится, когда проигрывает, не глядит вам алчно в глаза, как бы желая выворотить все внутренности вашего кармана, не подсмеивается над вами, когда вы проигрываете, однако ж и не сидит как истукан. Напротив того, он охотно позволит себе, выходя с карты, выразиться: "Не с чего, так с бубен", или же, в затруднительных случаях, крякнуть и сказать: "Тэ-э-кс". Вообще, он старается руководить своего партнера более взорами и телодвижениями; если же партнер так туп (и это бывает), что разговора этого не понимает, то оставляет его на произвол судеб, употребив, однако ж, наперед все меры к вразумлению несчастного.
Вообще, Порфирий Петрович составляет ресурс в городе, и к кому бы вы ни обратились с вопросом о нем, отовсюду наверное услышите один и тот же отзыв: "Какой приятный человек Порфирий Петрович!", "Какой милый человек Порфирий Петрович!" Что отзывы эти нелицемерны -- это свидетельствуется не только тоном голоса, но и всею позою говорящего. Вы слышите, что у говорящего в это время как будто порвалось что-то в груди от преданности к Порфирию Петровичу.
Однако не вдруг и не без труда досталось ему это завидное положение. Он, как говорят его почтенные сограждане, произошел всю механику жизни и вышел с честью из всех потасовок, которыми судьбе угодно было награждать его.
ПапЮ Порфирия Петровича был сельский пономарь; maman -- пономарица. Несомненно, что герою нашему предстояла самая скромная будущность, если б не одно обстоятельство. Известно, что в древние времена по селам и весям нашего обширного отечества разъезжали благодетельные гении, которые замечали природные способности и необыкновенное остроумие мальчиков и затем, по влечению своих добрых сердец, усердно занимались устройством судеб их.
На этот раз благодетель обратил внимание не столько на острого мальчика, сколько на его маменьку. Маменька была женщина полная, грудь имела высокую и белую, лицо круглое, губы алые, глаза серые, навыкате, и решительные. Полюбилась она старику благодетелю. Все ему мерещится то Уриева жена полногрудая, то купель силоамская; то будто плывет он к берегам ханаанским по морю житейскому, а житейское-то море такого чудно-молочного цвета, что гортань его сохнет от жажды нестерпимой. Наклонит он свою распаленную голову, чтобы испить от моря житейского, но -- о чудо! -- перед ним уж не море, а снежный сумет, да такой-то в нем снег мягкий да пушистый, что только любо старику. А пономарица только смеется, а дальше не допускает: "Дай, говорит, ваше благородие, место мужу в губернском городе!"
А муж -- пьяница необрезанный; утром, не успеет еще жена встать с постели, а он лежит уж на лавке да распевает канты разные, а сам горько-прегорько разливается-плачет. И не то чтоб стар был -- всего лет не больше тридцати -- и из себя недурен, и тенор такой сладкий имел, да вот поди ты с ним! рассудком уж больно некрепок был, не мог сносить сивушьего запаха. Билась с ним долго жена, однако совладать не могла; ни просьбы, ни слезы -- все нипочем: "Изыди, говорит, окаянная, в огнь вечный". Видит жена, что муж малодушествует, ее совсем обросил, только блудницей вавилонской обзывает, а сам на постели без дела валяется, а она бабенка молодая да полная, жить-то хочется, -- ну, и пошла тоже развлекаться.
Стала она сначала ходить к управительше на горькую свою долю жаловаться, а управительшин-то сын молодой да такой милосердый, да добрый; живейшее, можно сказать, участие принял. Засидится ли она поздно вечером -- проводить ее пойдет до дому; сено ли у пономаря все выдет -- у отца сена выпросит, ржицы из господских анбаров отсыплет -- и все это по сердолюбию; а управительша, как увидит пономарицу, все плачет, точно глаза у ней на мокром месте.
Вот идет однажды молодец поздно вечером, пономарицу провожает, а место, которым привелось проходить, глухое.
-- Страшно мне чтой-то, Евсигней Федотыч, -- говорит пономарица, -- идите-ка поближе ко мне.
Он подошел и руку ей подал, да уж и сам не знает как, только обнял ее, а она и слышит, что он весь словно в лихорадке трясется.
-- Не могу, -- говорит, -- воля ваша, Прасковья Михайловна, не могу дальше идти.
Сели они на пенек, да и молчат; только слышит она, что Евсигнейка дышит уж что-то очень прерывисто, точно захлебывается. Вот она в слезы.
-- Все-то, -- говорит, -- меня, сироту, покинули да оставили; вот и вам, Евсигней Федотыч, тоже, чай, бросить меня желательно.
А он все молчит да вздыхает: глуп еще, молод был. Видит она, что малый-то уж больно прост, без поощренья ничего с ним не сделаешь.
-- Чтой-то, -- говорит, -- мне будто холодно; ноженьки до смерти иззябли. Хошь бы вы, что ли, тулупчик с себя сняли да обогрели меня, Евсигней Федотыч.
Дело было весеннее: на полях травка только что показываться стала, и по ночам морозцем еще порядочно прихватывало. Снял он с себя мерлушчатый тулупчик, накинул ей на плеча, да как стал застегивать, руки-то и не отнимаются; а коленки пуще дрожат и подгибаются. А она так-то ласково на него поглядывает да по головке рукой гладит.
-- Вот, -- говорит, -- кабы у меня муж такой красавчик да умница был, как вы, Евсигней Федотыч...
Пробыли они таким манером с полчаса и пошли домой уж повеселее. Не то чтоб "Евсигней Федотыч", или "Прасковья Михайловна", а "Евсигнеюшка, голубчик", "Параша, жись ты моя" -- других слов и нет.
Долго ли, коротко ли, а стали на селе замечать, что управительский сын и лег и встал все у пономарицы. А она себе на уме, видит, что он уж больно голову терять начал, ну, и попридерживать его стала.
-- Я, -- говорит, -- Евсигнеюшка, из-за тебя, смотри, какой грех на душу приняла!
Ну, и в слезы.
А иногда возьмет его руками за голову да к груди-то своей и притянет словно ребенка малого, возьмет гребень, да и начнет ему волосы расчесывать.
-- А хочешь, -- говорит, -- дитятко, пряничка дам?
Таким образом, она все больше лаской да словами привораживала его к себе.
Однако в доме у управителя стали пропадать то вещи, то деньги. Всю прислугу перепороли; не отыскивается вор, да и все тут. Однажды и в господской кассе недосчитались ста рублей, нечего делать, поморщился старик управитель, положил свои деньги. И невдомек никому, что у пономарицы завелись чаи да обновы разные. Вот однажды, в темную осеннюю ночь, слышат караульщики, что к господской конторе кто-то ползком-ползком пробирается; затаили они дыхание, да и ждут, что будет. Подполз вор к двери, встал, стал прислушиваться: видит, что все кругом тихо, перекрестился и отворил дверь легонько. Проходит прихожую мимо караульщиков, и в горницу, прямо к сундуку. Вынул ключ и отпер кассу. А караульщики видят, что дело-то уж кончено и вору не уйти, смеются да пугают его. Кто чихнет, кто кашлянет, кто застонет, будто во сне; "Ах, батюшки, воры!" А вор-то так и оцепенеет весь. Таким образом они с четверть часа над ним тешились; попритихли опять. Вздохнул вор и только что начал рыться в ящике, как две дюжие руки и схватили его сзади. Подняли управителя, засветили огня; да как увидал старик вора, так и всплеснул руками.
-- Так вот, -- говорит, -- кто вор-от!
Да и повалился.
А Евсигнейка словно остервенился.
-- Ну, вор так вор! что ж, что вор!
Однако сын не сын управительский, а надели рабу божьему на ноги колодки, посадили в темную, да на другой день к допросу: "Куда деньги девал, что прежде воровал?" Как ни бились, -- одних волос отец две головы вытаскал, -- однако не признался: стоит как деревянный, слова не молвит. Только когда помянули Парашку -- побледнел и затрясся весь, да и говорит отцу:
-- Ты ее, батька, не замай, а не то и тебя пришибу, и деревню всю вашу выжгу, коли ей какое ни на есть беспокойствие от вас будет. Я один деньги украл, один и в ответе за это быть должон, а она тут ни при чем.
Недели через две свезли его в рекрутское присутствие, да и забрили лоб.
В этой-то горести застала Парашку благодетельная особа. Видит баба, дело плохо, хоть из села вон беги: совсем проходу нет. Однако не потеряла, головы, и не то чтобы кинулась на шею благодетелю, а выдержала характер. Смекнул старик, что тут силой не возьмешь -- и впрямь перетащил мужа в губернский; город, из духовного звания выключил и поместил в какое-то присутственное место бумагу изводить.
Подрастает Порфирка и все около себя примечает. И в школу ходить начал, способности показал отменные; к старику благодетелю все ластится, тятькой его называет, а на своего-то отца на пьяного уж и смотреть не хочет. Все даже думает, как бы ему напакостить: то сонному в рот табаку напихает, то сальною свечой всю рожу вымажет, а Парашка знай себе сидит да хохочет. Жили они не то чтобы бедно, а безалаберно. У Парашки шелковых платьев три короба, а рубашки порядочной нет; пойдет она на базар, на рубль пряников купит, а дома хлеба корки нет. Сиживал-таки Порфирка наш голодом не один день; хаживал больше все на босу ногу, зимой и летом, в одном изодранном тулупчишке.
Нашел он как-то на дороге гривенник -- поднял и схоронил. В другой раз благодетель гривенничком пожаловал -- тоже схоронил. Полюбились ему деньги; дома об них только и разговору. Отец ли пьяный проспится -- все хнычет, что денег нет; мать к благодетелю пристает -- все деньгами попрекает.
-- Эка штука деньги! -- думает Порфирка, -- а у меня их всего два гривенника. Вот, мол, кабы этих гривенников хошь эко место, завел бы я лавочку, накупил бы пряников. Идут это мальчишки в школу, а я им: "Не побрезгуйте, честные господа, нашим добром!" Ну, известно, кой пряник десять копеек стоит, а ты за него шесть пятаков.
Стал он и поворовывать; отец жалованье получит -- первым делом в кабак, целовальника с наступающим первым числом поздравить. Воротится домой пьянее вина, повалится на лавку, да так и дрыхнет; а Порфирка между тем подкрадется, все карманы обшарит, да в чулан, в тряпочку и схоронит. Парашка потом к мужу пристает: куда деньги девал? а он только глазами хлопает. Известное дело -- пьяный человек! что от него узнаешь? либо пропил, либо потерял.
По тринадцатому году отдали Порфирку в земский суд, не столько для письма, сколько на побегушки приказным за водкой в ближайший кабак слетать. В этом почти единственно состояли все его занятия, и, признаться сказать не красна была его жизнь в эту пору: кто за волоса оттреплет, кто в спину колотушек надает; да бьют-то всё с маху, не изловчась, в такое место, пожалуй, угодит, что дух вон. А жалованья за все эти тиранства получал он всего полтора рубля в треть бумажками.
При помощи услужливости и расторопности втерся он, однако ж, в доверие к исправнику, так что тот и на следствия брать его стал. Способности оказал он тут необыкновенные: спит, бывало, исправник, не тужит, а он и людей опросит, и благодарность соберет, и все, как следует, исправит. По двадцатому году сам исправник его Порфирием Петровичем звать начал, а приказные -- не то чтоб шлепками кормить, а и посмотреть-то ему в глаза прямо не смеют. Земский суд в такой порядок привел, что сам губернатор на ревизии, как ни ковырял в книгах, никакой провинности заметить не мог; с тем и уехал.
Однажды сидит утром исправник дома, чай пьет; по правую руку у него жена, на полу детки валяются; сидит исправник и блаженствует. Помышляет он о чине асессорском, ловит мысленно таких воров и мошенников, которых пять предместников его да и сам он поймать не могли. Жмет ему губернатор руку со слезами на глазах за спасение губернии от такой заразы... А у разбойников рожи-то, рожи!..
-- Как это вы, Демьян Иваныч, подступились к таким антихристам? -- говорит ему дворянский заседатель, бледнея от ужаса.
-- Дело мастера боится, -- отвечает Демьян Иваныч, скромно потупляя глаза.
Но сон рассеивается; входит Порфирий Петрович.
-- Милости просим, милости просим, Порфирий Петрович! -- восклицает Демьян Иваныч, -- а я, любезный друг, вот помечтал тут маленько, да, признаться, чуть не соснул. За надобностью, что ли, за какой?
-- Да, за надобностью, -- отвечает Порфирий Петрович как-то не совсем охотно.
-- Что же такое?
-- Да то, что служить мне у вас больше не приходится: жалованье маленькое, скоро вот первый чин получу. Ну, и место это совсем не по моим способностям.
-- Жаль с тобою расстаться, Порфирий Петрович, жаль, право, жаль. Без тебя, пожалуй, не много тут дела сделаешь. Ну, да коли уж чувствуешь этакое призвание, так я тебе не злодей.
-- Жаль-то оно, точно что жаль-с, Демьян Иваныч, и мне вас жалко-с, да не в этом дело-с...
-- Что ж тебе надо?
-- Да не будет ли вашей милости мне тысячки две-с, не в одолжение, а так, дарственно, за труды-с.
-- А за какие бы это провинности, не позволите ли полюбопытствовать?
-- Разные документы у нас в руках имеются...
Демьян Иваныч и рот разинул.
-- Документы! какие документы! -- кричит, -- что ты там городишь, разбойник этакой, кляузу, чай, какую-нибудь соорудил!
-- Разные есть документы-с, всё вашей руки-с. Доверием вы меня, Демьян Иваныч, облекали -- известно, не драть же мне ваших записок-с, неделикатно-с: начальники! Изволите помнить, в ту пору купец работника невзначай зашиб, вы мне еще записку писали, чтоб с купца-то донять по обещанию... Верьте богу, Демьян Иваныч, а таких документиков дешевле двух тысяч никто не отдаст! Задаром-с, совсем задаром, можно сказать, из уважения к вам, что как вы мои начальники были, ласкали меня -- ну, и у нас тоже не бесчувственность, а чувство в сердце обитает-с.
Исправника чуть паралич не пришиб; упал на диван да так и не встает; однако отлили водой -- очнулся.
-- Сподобил, -- говорит, -- меня бог этакую змею выкормить, за грехи мои.
-- Оно конечно-с, Демьян Иваныч, -- отвечает Порфирий Петрович, -- оно конечно, змея-с, да вы извольте милостиво рассудить -- ведь и грехи-то ваши не малые. В те поры вон убийцу оправили, а то еще невинного под плети подвели, ну, и меня тоже, можно сказать, с чистою душой, во все эти дела запутали. Так вот коли этак-то посудишь, оно и не дорого две тысячи. Особливо, как на всё это документики, да свидетели-с. А я вам доложу, что мне две тысячи беспременно, до зарезу нужно-с. Сами посудите: я в губернский город еду, место по способностям своим иметь желаю-с, нельзя же тут без рекомендации, надо у всякого сыскать-с.
Делать нечего, Демьян Иваныч ...дал ему злата и проклял его.
По приезде в губернский город Порфирий Петрович вел себя очень прилично, оделся чистенько, приискал себе квартирку и с помощью рекомендательных писем недолго оставался без места. Сам губернатор изволил припомнить необычайную, выходящую из порядка вещей опрятность, замеченную в земском суде при ревизии, и тотчас же предложил Порфирию Петровичу место секретаря в другом земском суде; но герой наш, к общему удивлению, отказался.
-- Осмелюсь доложить вашему превосходительству, -- отвечал он, слегка приседая, -- осмелюсь доложить, что уж я сызмальства в этом прискорбии находился, формуляр свой, можно сказать, весь измарал-с. Чувства у меня, ваше превосходительство, совсем не такие-с, не то чтоб к пьянству или к безобразию, а больше отечеству пользу приносить желаю. Будьте милостивы, сподобьте принять в канцелярию вашего превосходительства.
Его превосходительство взглянули благосклонно.
-- Ну, -- говорят, -- уж если тово, так я, таперича, благородство...
И махнули рукой.
Зажил Порфирий Петрович в губернском городе, и все думает, как бы ему в начальниках сыскать. Обратил он поначалу на себя внимание ясным пониманием дела. Другой смотрит в дело и видит в нем фигу, а Порфирий Петрович сейчас заприметит самую настоящую "суть", -- ну и развивает ее как следует. Вострепетали исправники, вздрогнули городничие, побледнели дворянские заседатели; только и слышится по губернии: "Ах ты, господи!" И не то чтоб поползновение какое-нибудь -- сохрани бог! прослезится даже, бывало, как начнет говорить о бескорыстии. Вздумал было однажды какой-то исправник рыжичков своего селенья ему прислать -- вознегодовал ужасно, и прямо к его превосходительству: "Так, мол, и так; за что такое поношение?" Рыжички разыграли в лотерею в пользу бедных, а исправника выгнали.
Однако все ему казалось, что он недовольно бойко идет по службе. Заприметил он, что жена его начальника не то чтоб балует, а так по сторонам поглядывает. Сам он считал себя к этому делу непригодным, вот и думает, нельзя ли ему как-нибудь полезным быть для Татьяны Сергеевны.
Татьяна Сергеевна была дама образованная, нервная; смолоду слыла красавицей; сначала, скуки ради, пошаливала, а потом уж и привычку такую взяла. Муж у нее был как есть зверь лесной, ревнив страх, а временем и поколотит. Взяло Порфирия Петровича сердоболье; начал ездить к Татьяне Сергеевне и все соболезнует.
-- Все-то, -- говорит, -- у меня, Татьяна Сергеевна, сердце изныло, глядя на вас, какое вы с этим зверем тиранство претерпеваете. Ведь достанется же такое блаженство -- поди кому! Кажется, ручку бы только... так бы и умер тут, право бы, умер!
А Татьяна Сергеевна слушает это да смеется, и не то чтоб губами только, а так всем нутром, словно детки, когда им легонько брюшко пощекотишь.
Смекнул Порфирий Петрович, что по нраву бабе такие речи, что она и им, пожалуй, не побрезгует, да не входило это в его расчеты.
-- Откройтесь, -- говорит, -- мне, Татьяна Сергеевна; душу за вас готов положить.
А сам за руку ее берет, королевой называет и проливает слезы сердоболия.
Вот и открылась она ему: любила она учителя, и он ее тоже любил -- это ей достоверно известно было. Только свиданья им неспособно иметь было: все муж следил; ну, и людишки с ним заодно; записочки тоже любила она нежные писать -- и те с великим затруднением до предмета доходят. Просто угнетение. Вечно муж подозревает, оскорбляет сомнением, а она? "Посудите сами, Порфирий Петрович, заслужила ли я такую пытку? виновата ли я, что это сердце жаждет любви, что нельзя заставить его молчать? Ах, если б кто знал, как горько ошибаются люди!"
Порфирий Петрович охотно взял на себя управление кормилом этой утлой ладьи, устраивал свиданья, а писем переносил просто без счета.
Однако, хоть письма и были запечатываемы, а он умел-таки прочитывать их и даже не скрывал этого от Татьяны Сергеевны.
-- Вы меня извините, Татьяна Сергеевна, -- говорил он ей, -- не от любопытства, больше от жажды просвещения-с, от желания усладить душу пером вашим -- такое это для меня наслаждение видеть, как ваше сердечко глубоко все эти приятности чувствует... Ведь я по простоте, Татьяна Сергеевна, я ведь по-французскому не учился, а чувствовать, однако, могу-с...
Она-то с дураков ему смеется -- даже и запечатывать письма совсем перестала, а он нет-нет да и спрячет записочку, которая полюбопытнее.
Сидит однажды зверь лесной (это мужа они так шутя прозвали) у себя в кабинете запершись, над бумагой свирепствует. Стучатся. Входит Порфирий Петрович, и прямо в ноги.
-- Виноват, -- говорит, -- Семен Акимыч, не погубите! Я, то есть, единственно по сердоболию; вижу, что дама образованная убивается, а оне... вот и письма-с!.. Думал я, что оне одним это разговором, а теперь видел сам, своими глазами видел!..
Ощутил лесной зверь, что у него на лбу будто зубы прорезываются. Взял письма, прочитал -- там всякие такие неудобные подробности изображаются. Глупая была баба! Мало ей того, чтоб грех сотворить, -- нет, возьмет да на другой день все это опишет: "Помнишь ли, мол, миленький, как ты сел вот так, а я села вот этак, а потом ты взял меня за руку, а я, дескать, хотела ее отнять, ну, а ты"... и пошла, и пошла! да страницы четыре мелко-намелко испишет, и все не то чтоб дело какое-нибудь, а так, пустяки одни.
Известно, остервенился зверь, жену избил на чем свет стоит, учителя в палки поставил, а к Порфирию Петровичу с тех пор доверие неограниченное питать стал.
Таким-то образом он лет около трех все только обстановлял себя, покуда не почувствовал, что атмосфера кругом легче сделалась. Везде умел сделаться необходимым, и хотя не был образцом прелестных манер красоты, но и не искал этого, постоянно имея в виду более прочное и существенное. Однако, увидевши себя на торной дороге, он нашел, что было бы и глупо и не расчет не воспользоваться таким положением. Тут начался длинный ряд подвигов, летопись которых была бы весьма интересна, если б не имела печального сходства с тою, которую я имел честь рассказать вам, читатель, в одном из прежних моих очерков [См. "Прошлые времена". (Прим. Салтыкова-Щедрина)]. Результат оказался таков, что лет через десять Порфирия Петровича считали уж в двухстах тысячах.
Провинция странная вещь, господа! и вы, которые никогда не выставляли из Петербурга своего носа, никогда ни о чем не помышляли, кроме паев в золотых приисках и акций в промышленных предприятиях, не ропщите на это!
По мере большего плутовства, Порфирий Петрович все большее и большее снискивал уважение от своих сослуживцев и сограждан. "Ну, что ж, что он берет! -- говорили про него, -- берет, да зато дело делает; за свой, следственно, труд берет".
Однажды пришла ему фантазия за один раз всю губернию ограбить -- и что ж? Изъездил, не поленился, все закоулки, у исправников все карманы наизнанку выворотил, и, однако ж, не слышно было ропота, никто не жаловался. Напротив того, радовались, что первые времена суровости и лакедемонизма прошли и что сердце ему отпустило. Уж коли этакой человек возьмет, значит, он и защищать сумеет. Выходит, что такому лицу деньги дать -- все равно что в ломбард их положить; еще выгоднее, потому что проценты больше. И за всем тем чтоб было с чиновниками у него фамильярство какое -- упаси бог! Не то чтобы водочкой или там "братец" или "душка", а явись ты к нему в форме, да коли на обед звать хочешь, так зови толком: чтоб и уха из живых стерлядей была, и тосты по порядку, как следует.
Наконец настала и для него пора любви: ему было уже под сорок. Но и тут он остался верен себе; не влюбился сдуру в первую встречную юбку, не ходил, как иной трезор, под окнами своей возлюбленной. Нет, он женился с умом, взял девушку хоть бедную, но порядочную и даже образованную. Денег ему не нужно было -- своих девать некуда -- ему нужна была в доме хозяйка, чтоб и принять и занять гостя умела, одним словом, такая, которая соответствовала бы тому положению, которое он заранее мысленно для себя приготовил. Не боялся он также, что она выскользнет у него из рук; в том городе, где он жил и предполагал кончить свою карьеру, не только человека с живым словом встретить было невозможно, но даже в хорошей говядине ощущалась скудость великая; следовательно, увлечься или воспламениться было решительно нечем, да притом же на то и ум человеку дан, чтоб бразды правления не отпускать. И действительно, неизвестно, как жила его жена внутренне; известно только, что она никому не жаловалась и даже была весела, хоть при Порфирии Петровиче как будто робела.
Но, как хотите, взятки да взятки -- а это и самого изощренного ума человеку надоест наконец. Беспрестанно изобретай, да не то чтоб награду за остроумие получить, а будь еще в страхе: пожалуй, и под суд попадешь. Времена же настают такие, когда за подобную остроту ума не то чтобы по головке гладить, а чаще того за вихор таскают. Чин у Порфирия Петровича был уж изрядный, женился он прилично; везде принят, обласкан и уважен; на последних выборах единогласно старшиной благородного собрания выбран; губернатор у него в доме бывает: скажите на милость, ну, след ли такой, можно сказать, особе по уши в грязи барахтаться! Стал он вздыхать и томиться тоской, даже похудел и пожелтел. В перспективе ему виднелось местечко! Господи! инда задрожит Порфирий Петрович, как подумает об нем! местечко с доходами, "вот уж совершенно-то безгрешными!", местечко покойное, место злачно, прохладно, как говорится...
В провинции о казне существуют между чиновниками весьма странные понятия. Она представляется чем-то отвлеченным, символическим, невесомым: так, пар какой-то, нечто вроде Фемиды в воображении секретаря уездного суда. Известное дело, что такую особу как ни обижай -- все-таки ничем обидеть не можно; она все-таки сидит себе, не морщится и не жалуется никому. "Кому от этого вред! ну, скажите, кому? -- восклицает остервенившийся идеолог-чиновник, который великим постом в жизнь никогда скоромного не едал, ни одной взятки не перекрестясь не бирал, а о любви к отечеству отродясь без слез не говаривал, -- кому вред от того, что вино в казну не по сорока, а по сорока пяти копеек за ведро ставится!"
И начнет вам доказывать это так убедительно, что вы и руки расставите.
Излишне было бы подсказывать догадливому читателю, что Порфирий Петрович желаемое место получил.
С этой-то поры разлилась в душе его та мягкость, та невозмутимая ясность, которой мы удивляемся в наших губернских Цинциннатах, пользующихся вполне безгрешными доходами.
Занятия его приобрели мирный и патриархальный характер: он более всего предается садоводству и беседам с природой, вызывающей в нем благочестивые размышления о беспредельном величии божием.
Усладительно видеть его летом, когда он, усадив на длинные дроги супругу и всех маленьких Порфирьичей и Порфирьевн, которыми щедро наделила его природа, отправляется за город кушать вечерний чай. Перед вами восстает картина Иакова, окруженного маленькими Рувимами, Иосиями, не помышляющими еще о продаже брата своего Иосифа.
Там, на лоне матери-природы, сладко отдохнуть ему от тревог житейских, сладко вести кроткую беседу с своею чистою совестью, сладко сознать, что он -- человек, казенных денег не расточающий, свои берегущий, чужих не желающий.
КНЯЖНА АННА ЛЬВОВНА
Княжне Анне Львовне скоро минет тридцать лет. Она уже довольно отчетливо сознает, что надежда -- та самая, которая утешает царя на троне и земледельца в поле, -- начинает изменять ей. Прошла пора детских игр и юношеских увлечении, прошла пора жарких мечтаний и томительных, но сладостных надежд. Наступает пора благоразумия. Княжна понимает все это и, по-видимому, покоряется своей судьбе; но это только по-видимому, потому что жизнь еще сильным ключом бьет в ее сердце и громко предъявляет свои права. По этой же самой причине положение княжны делается до крайности несносно. Она чувствует, что должна отказаться от надежды, и между тем надежда ни на минуту не оставляет ее сердца... Чаще и чаще она задумывается; глаза ее невольно отрываются от работы и пристально всматриваются в даль; румянец внезапно вспыхивает на поблекнувших щеках, и даже губы шевелятся. Должно полагать, что в эти минуты она бывает очень счастлива. Когда ее папа, князь Лев Михайлович, старичок весьма почтенный, но совершенно не посвященный в тайны женского сердца, шутя называет ее своею Антигоной, то на губах ее, силящихся изобразить приятную улыбку, образуется нечто кислое, сообщающее ее доброму лицу довольно неприятное выражение. Нередко также, среди весьма занимательного разговора с наиостроумнейшим из крутогорских кавалеров, с княжной вдруг делается нервный припадок, и она начинает плакать. "Антигоне мужа хочется!" -- говорят при этом крутогорские остряки.
Княжна вообще отличная девушка. Она очень умна и приветлива, а добра так, что и сказать нельзя, и между тем -- странное дело! -- в городе ее не любят, или, лучше сказать, не то что не любят, а как-то избегают. Говорят, будто сквозь ее приветливость просвечивает холодность и принужденность, что в самой доброте ее нет той симпатичности, той страстности, которая одна и составляет всю ценность доброты. Все в ней как будто не докончено; движения не довольно мягки, не довольно круглы; в голосе нет звучности, в глазах нет огня, да и губы как-то уж чересчур тонки и бледны. "А все оттого, что надо Антигоне мужа!" -- замечают те же остряки.
Княжна любит детей. Часто она затевает детские вечеринки и от души занимается маленькими своими гостями. Иногда случается ей посадить себе на колени какого-нибудь туземного малютку; долго она нянчится с ним, целует и ласкает его; потом как будто задумается, и вдруг начнет целовать, но как-то болезненно, томительно. "Ишь как ее разобрало! -- глубокомысленно замечают крутогорцы, -- надо, ох, надо Антигоне мужа!"
Княжна любит природу -- оттого что ей надо мужа; она богомольна -- оттого что вымаливает себе мужа; она весела -- потому что надеется найти себе мужа; скучна -- оттого что надежда на мужа обманула ее... везде муж!
Слово "муж" точит все существование княжны. Она читает его во всех глазах; оно чудится ей во всяком произнесенном слове... И что всего грустнее, это страшное слово падает не на здоровый организм, а на действительную рану, рану глубокую и вечно болящую. Княжна усиливается забыть его, усиливается закалить свои чувства, потерять зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, сделаться существом безразличным, но все усилия напрасны. "Кому ты дала радость? Кого наделила счастьем? Кого успокоила? Чье существование просветлено тобой? Кому ты нужна?" -- шепчет ей и днем и ночью неотступный голос, посильнее голоса крутогорских остряков. И напрасно княжна хочет обмануть себя тем, что она нужна папаше. Тот же голос твердит ей: "Господи! как отрадно, как тепло горит в жилах молодая кровь! как порывисто и сладко бьется в груди молодое сердце! как освежительно ласкает распаленные страстью щеки молодое дыханье! Сколько жизни, сколько тепла... сколько любви!"
И княжна невольно опускает на грудь свою голову. "И как хорош, как светел божий мир! -- продолжает тот же голос. -- Что за живительная сила разлита всюду, что за звуки, что за звуки носятся в воздухе!.. Отчего так вдруг бодро и свежо делается во всем организме, а со дна души незаметно встают все ее радости, все ее светлые, лучшие побуждения!"
Очевидно, что такие сафические мысли могут осаждать голову только в крайних и не терпящих отлагательства "случаях". Княжна плачет, но мало-помалу источник слез иссякает; на сцену выступает вся желчь, накопившаяся на дне ее тридцатилетнего сердца; ночь проводится без сна, среди волнений, порожденных злобой и отчаяньем... На другой день зеркало имеет честь докладывать ее сиятельству, что их личико желто, как выжатый лимон, а глаза покрыты подозрительною влагой...
Княжна попала в Крутогорск очень просто. Папаша ее, промотавши значительное состояние, ощутил потребность успокоиться от треволнений света и удалиться из столицы, в которой не имел средств поддерживать себя по табели о рангах. После идеи о муже идея о бедности была самою мучительною для княжны; наклонности к роскоши и всякого рода удобствам до того впились в нее и срослись со всем ее существом, что скромная действительность, которая ждала ее в Крутогорске, раздражала ее. Все здесь было как-то не по ней: общество казалось тяжелым и неуклюжим; в домах все смотрело неопрятно; грязные улицы и деревянные тротуары наводили уныние; танцевальные вечера, которые изредка назначались в "благородном" собрании, отличались безвкусием, доходившим до безобразия...
Такая полная невозможность утопить гнетущую скуку в тех простых и нетрудных удовольствиях света, которые в столице так доступны для всякой порядочной женщины, вызвала в сердце княжны потребность нового для нее чувства, чувства дружбы и доверчивости. К сожалению, хотя, быть может, и не без тайного расчета, выбор ее пал на сумрачнейшую из крутогорских сплетниц, вдову умершего под судом коллежского регистратора, Катерину Дементьевну Шилохвостову. Катерина Дементьевна с юношеских лет посвятила свою особу возделыванию вертограда добродетелей, к которым, как дама, оскорбленная судьбой, питала чрезмерную склонность. Добродетели эти заключались преимущественно в различного рода чувствах преданности и благоговения, предметы которых благоразумно избирались ею между губернскими тузами. Нет сомнения, что известная всему миру пресыщенность носов наших губернских аристократов, оказывающая чувствительность лишь к острым и смолистым фимиамам, всего более руководила Катерину Дементьевну в этом выборе. Удостоенная интимных сношений с княжной, она нашла, что ее сиятельство в себе одной соединяет коллекцию всех женских совершенств. Оказывалось, например, что "таких ручек и ножек не может быть даже у принцессы"; что лицо княжны показывает не более восьмнадцати лет; разобраны были самые сокровенные совершенства ее бренного тела, мельчайшие подробности ее туалета, и везде замечено что-нибудь в похвалу благодетельницы.
И княжна потихоньку смеялась, а иногда и вздыхала, но как-то сладко, успокоительно, в несколько приемов, как вздыхают капризные, но милые дети, после того как вдоволь наплачутся.
Несмотря на всю грубость и, так сказать, вещественность этой лести, княжна поддалась ей: до того в ней развита была потребность фимиамов. От лести не далеко было и до сплетничанья. Княжна мгновенно, так сказать гальванически, была посвящена во все мелочи губернской закулисной жизни. Ей стали известны все скрытые безобразия, все сердечные недуги, все скорби и болячки крутогорского общества. Добытые этим путем сведения вообще пошлы и грязноваты. По большей части им служат канвою половые побуждения и самые серенькие подробности будничной жизни. В этом миниятюрном мире, где все взаимные отношения определяются в самое короткое время с изумительнейшею точностию, где всякая личность уясняется до малейшей подробности, где нахально выметается в публику весь сор с заднего двора семейного пандемониума -- все интересы, все явления делаются до того узенькими, до того пошлыми, что человеку, имеющему здоровое обоняние, может сделаться тошно.
И между тем -- замечательная вещь! -- даже личность, одаренная наиболее деликатными нервами, редко успевает отделаться от сокрушительного влияния этой миниятюрной и, по наружности, столь непривлекательной жизни! Не вдруг, а день за день, воровски подкрадывается к человеку провинцияльная вонь и грязь, и в одно прекрасное утро он с изумлением ощущает себя сидящим по уши во всех крошечных гнусностях и дешевых злодействах, которыми преизобилует жизнь маленького городка. Отбиться от них нет никакой возможности: они, как мошки в Барабинской степи, залезают в нос и уши и застилают глаза. И в самом деле, как бы ни была грязна и жалка эта жизнь, на которую слепому случаю угодно было осудить вас, все же она жизнь, а в вас самих есть такое нестерпимое желание жить, что вы с закрытыми глазами бросаетесь в грязный омут -- единственную сферу, где вам представляется возможность истратить как попало избыток жизни, бьющий ключом в вашем организме. И вот провинцияльная жизнь предлагает вам свои дешевые материяльные удобства, свою лень, свои сплетни, свой нетрудный и незамысловатый разврат... И все это так легко, так просто достается! Вам начинает сдаваться, что вы нечто вроде сказочного паши, что стоит вам только пожелать, чтобы все исполнилось... Правда, залетает иногда мимоходом в вашу голову мысль, что и желания ваши сделались как будто ограниченнее, и умственный горизонт как-то стал уже, что вы легче, дешевле миритесь и удовлетворяетесь, что вообще в вас происходит что-то неловкое, неладное, от чего в иные минуты бросается вам в лицо краска... Но мало-помалу и эта докучная мысль начинает беспокоить вас реже и реже; вы даже сами спешите прогнать ее, как назойливого комара, и, к полному вашему удовольствию, добровольно, как в пуховике, утопаете в болоте провинцияльной жизни, которого поверхность так зелена, что издали, пожалуй, может быть принята за роскошный луг.
Таким образом, и княжна очень скоро начала находить весьма забавным, что, например, вчерашнюю ночь Иван Акимыч, воротясь из клуба ранее обыкновенного, не нашел дома своей супруги, вследствие чего произошла небольшая домашняя драма, по-французски называемая roman intime [интимный роман (франц.)], а по-русски потасовкой, и оказалось нужным содействие полиции, чтобы водворить мир между остервенившимися супругами.
-- И после этого она решается показываться в обществе? -- наивно вопрошает княжна
-- И, матушка! брань на вороту не виснет! -- отвечала вдова Шилохвостова, -- у наших барынь бока медные, а лбы чугунные!
В следующий раз предложен был рассказ о происшествии, случившемся в загородном саду. Повздорил стряпчий с каким-то секретарем. Секретарь пил чай, а стряпчий проходил мимо, и вдруг ни с того ни с сего хлысть секретаря в самую матушку-физиономию. Секретарь, не получавший подарков лет десять, возразил на это, что стряпчий подлец, а стряпчий отвечал, что не подлец, а тот подлец, кто платки из карманов ворует, и ударил секретаря вдругорядь в щеку. Кончилось дело, "ангел вы мой", тем, что в ссору вступился протоколист, мужчина вершков этак четырнадцати, который тем только и примирил враждующие стороны, что и ту, и другую губительнейшим образом оттузил во все места.
И все это было передаваемо с тою бесцветною ясностию, которая составляет необходимую принадлежность всякого истинно правдивого дееписателя.
Княжна знала, какое количество ваты истребляет Надежда Осиповна, чтоб сделать свой бюст роскошным; знала, что Наталья Ивановна в грязь полезет, если видит, что там сидит мужчина; что Петр Ермолаич только до обеда бывает человеком, а после обеда, вплоть до другого утра, не годится; что Федору Платонычу вчерашнего числа прислал полорецкий городничий свежей икры в презент; что Вера Евлампьевна, выдавая замуж свою дочь, вызывала зачем-то окружных из уездов.
Однако ж в одно прекрасное утро княжна задумалась. Ей доложили, что Катерина Дементьевна рассказывала там-то и там-то, будто она, княжна, без памяти влюблена в секретаря земского суда Подгоняйчикова. Княжна не хотела верить, но впоследствии вынуждена была уступить очевидности По произведенному под рукой дознанию оказалось, что Подгоняйчиков приходится родным братом Катерине Дементьевне, по муже Шилохвостовой и что, по всем признакам, он действительно имел какие-то темные посягательства на сердечное спокойствие княжны. Признаки эти были: две банки помады и стклянка духов, купленные Подгоняйчиковым в тот самый период времени, когда сестрица его сделалась наперсницей княжны; гитара и бронзовая цепочка, приобретенная в то же самое время, новые брюки и, наконец, найденные в секретарском столе стихи к ней, писанные рукой Подгоняйчикова и, как должно полагать, им самим сочиненные.
Княжна пришла в ужас, и на другой день мадам Шилохвостова была с позором изгнана из дома, а Подгоняйчиков, для примера прочим, переведен в оковский земский суд на вакансию простого писца.
Весть эта с быстротою молнии разлилась по городу и произвела на чиновный люд какое-то тупое впечатление. Обвиняли все больше Подгоняйчикова.
-- Слышал? -- спрашивал Саша Дернов знакомца своего, Гирбасова, встретившись с ним на улице.
-- Слышал, -- отвечал Гирбасов, -- что ж, сам виноват!
-- Выходит, что надо держать язык за зубами.
-- Да, этак-то, пожалуй, выгоднее. Недалеко ведь было ему и до станового!.. А не зайдешь ли к нам выпить водочки?
И затем Подгоняйчиков, со всею помадой и новыми брюками, навек канул в Лету.
Разочаровавшись насчет крутогорской дружбы, княжна решилась заняться благотворительностью. Немедленно по принятии такого решения собраны были к ее сиятельству на совет все титулярные советники и титулярные советницы, способные исполнять какую бы то ни было роль в предложенном княжною благородном спектакле. Выбрана была пиеса "И хороша и дурна" и т. д. Главную роль должна была исполнить, comme de raison [как и полагается (франц.)], сама виновница сего торжества; роль же Емельяна выпала на долю статского советника Фурначева. Статскому советнику думали польстить, дав ему эту роль, потому что его высокородие обладал действительным комическим талантом; однако, сверх всякого ожидания, это обстоятельство погубило спектакль. Статский советник Фурначев оскорбился; он справедливо нашел, что в Крутогорске столько губернских секретарей, которые, так сказать, созданы в меру Емельяна, что странно и даже неприлично возлагать такое поручение на статского советника. Спектакль не состоялся, но прозвище Емельяна навсегда упрочилось за статским советником Фурначевым. Даже уличные мальчишки, завидя его издали, поспешающего из палаты отведать горячих щей, прыгали и кричали что есть мочи: "Емельян! Емельян идет!"
Княжна этим утешилась.
После этой неудачи княжна попробовала благотворительной лотереи. К участию приглашены были все лица, известные своею благотворительностью на пользу ближнего. В разосланных на сей конец объявлениях упомянуты были слезы, которые предстояло отереть, старцы, обремененные детьми, которых непременно нужно было одеть, и даже дети, лишенные старцев. В одно прекрасное утро проснувшиеся крутогорские чиновники с изумлением увидели, что по улицам мирного Крутогорска журчат ручьи слез, а площади покрыты дрожащими от холода голыми малютками. И княжна не напрасно взывала к чувствительным сердцам крутогорцев. Первым на ее голос отозвался управляющий палатой государственных имуществ, как grand seigneur [вельможа (франц.)] и сам попечитель множества малюток, приславший табакерку с музыкой; за ним последовал непременный член строительной комиссии, жена которого пожертвовала подушку с изображением турка, играющего на флейте. Через неделю кабинет княжны был наполнен всякого рода редкостями. Тут был и окаменелый рак, и вечная борзая собака в виде пресс-папье; но главную роль все-таки играли разного рода вышиванья.
Княжна была очень довольна. Она беспрестанно говорила об этих милых бедных и называла их не иначе, как своими сиротками. Конечно, "ее участие было в этом деле самое ничтожное"; конечно, она была только распорядительницей, "elle ne faisait que courir au devant des voeux de l'aimable sociХtХ de Kroutogorsk [она только спешила навстречу пожеланиям милого крутогорского общества (франц.)] -- тем не менее она была так счастлива, так проникнута, "si pХnХtrХe" [так проникнута (франц.)], святостью долга, выпавшего на ее долю! -- и в этом, единственно в этом, заключалась ее "скромная заслуга". Если бы nous autres [мы (франц.)] не спешили навстречу de loutes les misХres [всем бедствиям (франц.)], которые точат, oui qui rongent -- e'est le mot [да, которые точат -- это подходящее слово (франц.)] -- наше бедное общество, можно ли было бы сказать, что мы исполнили наше назначение? С другой стороны, если б не было бедных, этих милых бедных, -- не было бы и благотворительности, некому было бы утирать нос и глаза, et alors oЫ serait le charme de cette existence! [и тогда в чем была бы прелесть этого существования! (франц.)] Княжна распространялась очень много насчет удовольствий благотворительности и казалась до того пропитанною благовонием любви к ближнему, что девицы Фигуркины, тщательно наблюдавшие за нею и передразнивавшие все ее движения, уверяли, что из головы ее, во время розыгрыша лотереи, вылетало какое-то электричество.
Но, увы! кончилась и лотерея; брандмейстер роздал по два целковых всем безносым старухам, которые оказались на ту пору в Крутогорске; старухи, в свою очередь, внесли эти деньги полностью в акцизно-откупное комиссионерство -- и снова все сделалось тихо.
Снова осталась княжна один на один с своею томительною скукой, с беспредметными тревогами, с непереносимым желанием высказаться, поделиться с кем-нибудь жаждой любви и счастья, которая, как червь, источила ее бедное сердце. Снова воздух насытился звуками и испареньями, от которых делается жутко сердцу и жарко голове.
Однажды княжне встретилась необходимость войти в комнату, которая была предназначена для дежурного чиновника. На этот раз дежурным оказался Павел Семеныч Техоцкий, молодой человек, отлично скромный и обладавший сверх того интересным и бледным лицом. Павел Семеныч, при появлении княжны, несколько смутился; княжна, при взгляде на Павла Семеныча, слегка покраснела. В руках у нее был конверт, и конверт этот, неизвестно по какой причине, упал на пол. Техоцкий бросился поднимать его и... поднял. Княжна поблагодарила, но без всякого изменения и дрожания в голосе, как ожидают, быть может, некоторые читатели, сохранившие юношескую привычку верить во внезапные симпатии душ.
-- Не можете ли вы отнести этот конверт на почту? -- спросила княжна.
Техоцкий взял конверт и удалился из комнаты.
Несмотря на свою кажущуюся ничтожность, происшествие это имело чрезвычайное влияние на княжну. Неизвестно почему, ей показалось, что Техоцкий принадлежит к числу тех гонимых и страждущих, которые стоят целою головой выше толпы, их окружающей, и по этому самому должны каждый свой шаг в жизни запечатлеть пожертвованиями и упорною борьбою. Она не имела времени или не дала себе труда подумать, что такие люди, если они еще и водятся на белом свете, высоко держат голову и гордо выставляют свой нахальный нос в жертву дерзким ветрам, а не понуривают ее долу, как это делал Техоцкий.
Княжна саму себя считала одною из "непризнанных", и потому весьма естественно, что душа ее жаждала встретить такого же "непризнанного". С двадцатипятилетнего возраста, то есть с того времени, как мысль о наслаждениях жизни оказалась крайне сомнительною, княжна начала уже думать о гордом страдании и мысленно создавала для себя среди вечно волнующегося океана жизни неприступную скалу, с вершины которой она, "непризнанная", с улыбкой горечи и презрения смотрела бы на мелочную суетливость людей. Мудрено ли, что она и Техоцкого нарядила в те самые одежды, в которых сама мысленно любила красоваться: сердце так легко находит то, к чему постоянно стремится! Расстояние, которое лежало между ею и бедным маленьким чиновником канцелярии ее папаши, только давало новую пищу ее воображению, раздражая его и ежечасно подстрекая то стремление к неизвестному и неизведанному, которое во всякой женщине составляет господствующую страсть.
Княжна сделалась задумчивее и вместе с тем как-то деятельнее. Она чаще устраивала собрания и всякого рода общественные увеселения и чрезвычайно хлопотала, чтобы в них принимало участие как можно более молодых людей. Иногда ей удавалось встречать там Техоцкого, и хотя, по своему положению в губернском свете, она не могла ни говорить, ни танцевать с ним, но в эти вечера она была вполне счастлива. По возвращении домой она садилась к окну, и сердце ее делалось театром тех жгучих наслаждений, которые сушат человека и в то же время втягивают его в себя сверхъестественною силой. Слова любви, полные тоски и молении, тихо нежили ее слух; губы ее чувствовали чье-то жаркое прикосновение, а в жилах внезапно пробегала тонкая, разъедающая струя огня... Мучительные, но отменно хорошие мгновения!
Однако ж встречи с Техоцким не могли быть частыми. Оказалось, что для того, чтобы проникнуть в святилище веселия, называемое клубом, необходимо было вносить каждый раз полтинник, и это правило, неудобное для мелких чиновников вообще, было в особенности неудобно для Техоцкого, который был из мелких мельчайшим. Узнавши об этом, княжна рассердилась: по выражению Сафо, которая, по всем вероятиям, приходилась ей двоюродного сестрицей, она сделалась "зеленее травы". Сверх того, и в отношении к туалету у Техоцкого не все было в исправности, и провинности, обнаруживавшиеся по этой части, были так очевидны, что не могли не броситься в глаза даже ослепленной княжне. Фрак был и короток и узок; рукава как-то мучительно обтягивали руки и на швах побелели; пуговицы обносились; жилет оказывался с какими-то стеклянными пуговицами, а перчаток и совсем не было... вовсе неприлично! Хоть княжна и стремилась душой к гонимым и непризнанным, но ей было желательно, чтоб они были одеты прилично, имели белые перчатки и носили лакированные сапоги. Это так мило: Чайльд-Гарольд, с бледными щеками, высоким лбом -- и в бесподобнейшем черном фраке! У княжны имелась небольшая сумма денег, сбереженная от покупки разного женского тряпья: предстояло деньги эти во что бы то ни стало вручить Техоцкому.
Павел Семеныч был снова дежурным, и снова княжна посетила дежурную комнату. Оказывалось нужным написать какой-то адрес на конверте письма.
-- Отчего вы не бываете в клубе? -- спросила княжна совершенно неожиданно, и на этот раз с видимым волнением.
Техоцкий смутился и просто ни слова не ответил.
-- Вы хорошо пишете, -- сказала княжна, рассматривая его почерк.
Но Техоцкий опустил глаза в землю и продолжал упорно молчать.
-- Вы где учились?
-- В училище детей канцелярских служителей, ваше сиятельство, -- отвечал Техоцкий скороговоркой и покраснев как рак.
Княжна задумалась. При всей ее экзальтации, сочетание слов "сиятельство" и "училище детей канцелярских служителей" звучало так безобразно, что не могло не поразить ее.
-- Хорошо, -- сказала она, -- приходите завтра; мне нравится ваш почерк, и я найду для вас работу.
Княжна откопала какую-то старую рукописную поэму; нашла, что она дурно переписана, и на другой день вручила ее Техоцкому.
-- Вы можете разобрать эту руку? -- спросила княжна.
-- Точно так-с, ваше сиятельство, -- отвечал Техоцкий.
-- Отчего вы говорите мне "ваше сиятельство"?
Техоцкий молчал.
-- Порядочные люди говорят просто "княжна", -- продолжала она задумавшись и как будто про себя. -- Вы читаете что-нибудь?
-- Никак нет-с.
-- Чем же вы занимаетесь?
-- Служу-с.
-- А дома?
Техоцкому сделалось неловко.
-- Вы читайте, -- сказала княжна и сделала знак головою, чтоб он удалился.
По уходе его Анне Львовне сделалось необыкновенно грустно: ничтожество и неотесанность Техоцкого так ярко выступили наружу, что ей стало страшно за свои чувства. В это время вошел в ее комнату папаша; она бросилась к нему, прижалась лицом к его груди и заплакала.
-- Что ты! что с тобой, дурочка? -- спросил его сиятельство, сильно перетревожившись.
-- Мне скучно, папасецка, -- отвечала княжна, вдруг превращаясь в доверчивого и картавящего шестнадцатилетнего ребеночка.
Его сиятельство, откровенно сказать, был вообще простоват, а в женских делах и ровно ничего не понимал. Однако он притворился, будто об чем-то думает, причем физиономия его приняла совершенно свиное выражение, а руки как-то нескладно болтались по воздуху.
-- Уж, право, я не знаю, чего тебе, дурочка, хочется! -- сказал он в сильнейшем раздумье, -- кажется, ты первое лицо в городе... право, не знаю, чего тебе хочется!
И князь усиленно вздохнул, как будто вывез целый воз в гору.
-- Папасецка! какое самое последнее место в свете? -- вдруг спросила княжна.
-- То есть как самое последнее?
-- Ну да, самое последнее -- такое вот, где все приказывают, а сам никому не приказываешь, где заставляют писать, дежурить...
Князь углубился.
-- То есть, как же дежурить? -- спросил он, -- дежурят, дурочка, чиновники, mais on n'en parle pas...[но о них не говорят... (франц.)]
-- Ну, а какое место выше чиновника?
Князь чрезвычайно обрадовался случаю выказать перед дочерью свои административные познания и тут же объяснил, что чиновник -- понятие генерическое, точно так же, как, например, рыба: что есть чиновники-осетры, как его сиятельство, и есть чиновники-пискари. Бывает и еще особый вид чиновника -- чиновник-щука, который во время жора заглатывает пискарей; но осетры, ma chХre enfant, c'est si beau, si grand, si sublime [милое мое дитя, это так красиво, так крупно, так величественно (франц.)], что на такую мелкую рыбешку, как пискари, не стоит обращать и внимание. Княжна призналась, что она знает одного такого пискаря; что у него старушка-мать, une gentille petite vieille et trХs proprette [прелестная старушка и очень благовоспитанная (франц.)] -- право! -- и пять сестер, которых он единственная опора. И для того, чтобы эта опора была солиднее, необходимо как можно скорее произвести пискаря, по крайней мере, в щурята
...................
Между тем Павел Семеныч, по свойственной человечеству слабости, спешил сообщить о постигшем его счастии испытанному своему другу Петьке Трясучкину. Трясучкин получал жалованья всего пять рублей в месяц и по этой причине был с головы до пяток закален в горниле житейских бедствий. Родители назвали его при рождении Петром, но обычай утвердил за ним прозвание Петуха, с которым он совершенно освоился. Некоторые называли его также принцем и вашим превосходительством: он и на эти прозвища откликался, и вообще выказывал в этом отношении полнейшее равнодушие. Только действительное его имя, Петр Иваныч, несколько дико звучало в его ухе: до такой степени оно было изгнано из общего употребления.
Юные коллежские регистраторы и канцелярские чиновники избирали его своим конфидентом в сердечных случаях, потому что он по преимуществу был муж совета. Хотя бури жизни и порастрепали несколько его туалет, но никто не мог дать более полезного наставления насчет цвета штанов, который мог бы подействовать на сердце женщины с наиболее сокрушительною силой...
Трясучкин выслушал внимательно простодушный рассказ своего друга и заметил, что "тут, брат, пахнет Подгоняйчиковым".
-- Это, брат, дело надобно вести так, -- продолжал он, -- чтоб тут сам черт ничего не понял. Это, брат, ты по-приятельски поступил, что передо мной открылся; я эти дела вот как знаю! Я, брат, во всех этих штуках искусился! Недаром же я бедствовал, недаром три месяца жил в шкапу в уголовной палате: квартиры, брат, не было -- вот что!
-- Ну, так как же ты думаешь, Петух! ведь тут славную можно штуку сыграть!
Трясучкин замотал головой.
-- Ты меня послушай! -- говорил он таинственным голосом, -- это, брат, все зависит от того, как поведешь дело! Может быть славная штука, может быть и скверная штука; можно быть становым и можно быть ничем... понимаешь?
-- Да, оно хорошо, кабы становым!
-- Ты сказал: становым -- хорошо! Следовательно, и действуй таким манером, чтоб быть тебе становым. А если, брат, будешь становым, возьми меня к себе в письмоводители! Мне, брат, что мне хлеба кусок да место на печке! я брат, спартанец! одно слово, в шкапу три месяца выжил!
-- Как в шкапу?
-- Так, брат, в шкапу! Ты думаешь, может, дело обо мне в шкапу лежало? так нет: сам своею собственною персоной в шкапу, в еловом шкапу, обитал! там, брат, и ночевал.
-- Так вот мы каковы! -- говорил Техоцкий, охорашиваясь перед куском зеркала, висевшим на стене убогой комнаты, которую он занимал в доме провинцияльной секретарши Оболдуевой, -- в нас, брат, княжны влюбляются!.. А ведь она... того! -- продолжал он, приглаживая начатки усов, к которым все канцелярские чувствуют вообще некоторую слабость, -- бабенка-то она хоть куда! И какие, брат, у нее ручки... прелесть! так вот тебя и манит, так и подмывает!
-- Что ручки! -- отвечал Трясучкин уныло, -- тут главное дело не ручки, а становым быть! вот ты об чем подумай!
И на дружеском совете положено было о ручках думать как можно менее, а, напротив того, все силы-меры направить к одной цели -- месту станового.
Ваше сиятельство! куда вы попали? что вы сделали? какое тайное преступление лежит на совести вашей, что какой-то Трясучкин, гадкий, оборванный, Трясучкин осмеливается взвешивать ваши девственные прелести и предпочитать им -- о, ужас! -- место станового пристава? EmbourbХe! embourbХe! [запуталась! погрязла! (франц.)] Все воды реки Крутогорки не смоют того пятна, которое неизгладимо легло на вашу особу!
Княжна действительно томится и увядает. Еще в детстве она слыхала, что одна из ее grandes-tantes, princesse Nina [тетушек, княжна Нина (франц.)], убежала с каким-то разносчиком; ей рассказывали об этой истории, comme d'une chose sans nom [как о неслыханной вещи (франц,.)], и даже, из боязни запачкать воображение княжны, не развивали всех подробностей, а выражались общими словами, что родственница ее сделала vilenie [низость (франц.)]. И вдруг та же самая vilenie повторяется на ней! Потому что ведь разносчик и Техоцкий -- это, в сущности, одно и то же, потому что и папа удостоверяет, что чиновники, ma chХre enfant, ce sont de ces gens, dont on ne parle pas [милое дитя, это люди, о которых не говорят (франц.)].
И между тем сердце говорит громче, нежели все доводы рассудка; сердце дрожит и сжимается, едва заслышит княжна звуки голоса Техоцкого, как дрожит и сжимается мышонок, завидев для себя неотразимую смерть в образе жирного, самодовольного кота.
И чем пленил он ее? Что могло заставить ее, княжну, снизойти до бедного, никем не замечаемого чиновника? Рассудок отвечает, что всему виною праздность, полная бездеятельность души, тоска, тоска и тоска! Но почему же не Трясучкин, а именно Техоцкий дал сердцу ту пищу, которой оно жаждало! Княжна с ужасом должна сознаться, что тут существуют какие-то смутные расчеты, что она сама до такой степени embourbХe, что даже это странное сборище людей, на которое всякая порядочная женщина должна смотреть совершенно бесстрастными глазами, перестает быть безразличным сбродом, и напротив того, в нем выясняются для нее совершенно определительные фигуры, между которыми она начинает уже различать красивых от уродов, глупых от умных, как будто не все они одни и те же -- о, mon Dieu, mon Dieu! [о, боже мой, боже мой! (франц.)]
И за всем тем княжна не может не принять в соображение и того обстоятельства, что ведь Техоцкий совсем даже не человек, что ему можно приказать любить себя, как можно приказать отнести письмо на почту.
Это для него все единственно-с.
В этой борьбе, в этих сомнениях проходит несколько месяцев. Техоцкий, благодаря новому положению, созданному для него княжной, новой паре платья, которую также княжна успела каким-то образом устроить для него на свой счет, втерся в высшее крутогорское общество. Он уже говорит о княжне без подобострастия, не называет ее "сиятельством" и вообще ведет себя как джентльмен, который, по крутогорской пословице, "сальных свеч не ест, стеклом не закусывает". Сама княжна, встречая его в обществе, помаленьку заговаривает с ним. Разговор их обыкновенно отличается простотою и несложностью.
-- Читали вы Оссиана? -- спрашивает княжна, которой внезапно припадает смертная охота сравнить себя с одною из туманных героинь этого барда.
Техоцкий краснеет и закусывает губы. Ему в первый раз в жизни приходится слышать об Оссиане.
-- Вы прочтите, -- говорит княжна, несколько раздосадованная, что разговор, обещавший сделаться интересным, погиб неестественною смертью.
Вообще, княжна, имевшая случай читать много и пристально, любит сравнивать себя с героинями различных романов. Более других по сердцу пришелся Жорж Санд и ей, без всяких шуток, иногда представляется, что она -- Valentine, а Техоцкий -- Benoit.
И вот они встретились, и встретились наконец один на один. Дело происходило в загородной роще, в которую княжна часто езжала для прогулок. Жаркое летнее солнце еще высоко стояло на горизонте, но высокие сосны и ели, среди которых прорезаны аллеи для гуляющих, достаточно защищали от лучей его. В воздухе было томительно сухо и жарко; сильный запах сосны как-то особенно раздражительно действовал на нервы; в роще было тихо и мертво. Крутогорские жители вообще не охотники до романических прогулок, а в шестом часу и подавно. В это время все спешат отделаться от ежедневного посещения статского советника Храповицкого, а не то чтоб гулять. Княжна ходила много и раскраснелась; в эти минуты она была даже недурна и казалась несравненно моложе своих лет. Глаза ее были влажны и вместе с тем блестящи; рот полуоткрыт, дыхание горячо; грудь поднималась и опускалась с какою-то истомой... И надо же, в таком чрезвычайном положении, встретить -- кого же? -- предмет всех тайных желаний, Павла Семеныча Техоцкого!
Что эта встреча была с ее стороны не преднамеренная -- доказательством служит то, что ей сделалось дурно, как только Техоцкий предстал пред глазами ее во всем блеске своей новой пары.
Человека княжны вблизи не было, и Техоцкому волею-неволею пришлось поддержать ее и посадить на скамью. Неизвестно, как это случилось, но только когда княжна открыла глаза, то голова ее покоилась на плече у возлюбленного. Очнувшись, она было отшатнулась, но, вероятно, пары, наполнявшие в то время воздух, были до того отуманивающего свойства, что головка ее сама собой опять прильнула к плечу Техоцкого. Так пробыла она несколько минут, и Техоцкий возымел даже смелость взять ее сиятельство за талию: княжна вздрогнула; но если б тут был посторонний наблюдатель, то в нем не осталось бы ни малейшего сомнения, что эта дрожь происходит не от неприятного чувства, а вследствие какого-то странного, всеобщего ощущения довольства, как будто ей до того времени было холодно, и теперь вдруг по всему телу разлилась жизнь и теплота. Княжна даже не глядела на своего обожателя; она вся сосредоточилась в себе и смотрела совсем в другую сторону. Но если бы она могла взглянуть в глаза Техоцкому, если б талия ее, которую обнимала рука милого ей канцеляриста, была хоть на минуту одарена осязанием, она убедилась бы, что взор его туп и безучастен, она почувствовала бы, что рука эта не согрета внутренним огнем.
Техоцкий молчал; княжна также не могла произнести ни слова. В первом молчание было результатом тупости чувства, во второй -- волнения, внезапно охватившего все ее существо. Наконец княжна не выдержала и заплакала.
-- Ваше сиятельство! -- произнес Техоцкий.
Но княжна не слышала и продолжала плакать.
-- Ваше сиятельство! -- вновь начал Техоцкий, -- имею до вас покорнейшую просьбу.
Княжна вдруг перестала плакать и пристально посмотрела на него. Техоцкий упал на колени.
-- Ваше сиятельство! -- вопиял он, ловя ее руки, -- заставьте бога за вас молить! похлопочите у его сиятельства!
Княжна встала.
-- Что вам нужно? -- спросила она сухо.
-- Мне-с?.. В Оковском уезде открывается вакансия станового пристава.
-- А!.. -- произнесла княжна и с достоинством удалилась по аллее.
К сожалению, полная развязка этой истории не дошла до меня; знаю только, что с этого времени остроумнейшие из крутогорских чиновников, неизвестно с какого повода, прозвали княжну пауком-бабой.
ПРИЯТНОЕ СЕМЕЙСТВО
Если вы живали в провинции, мой благосклонный читатель, то, вероятно, знаете, что каждый губернский и уездный город непременно обладает своим "приятным" семейством, точно так же как обладает городничим, исправником и т. п. В приятном семействе все члены, от мала до велика, наделены какими-нибудь талантами. Первый и существеннейший талант принадлежит самим хозяину и хозяйке дома и заключается в том, что они издали в свет целый выводок прелестнейших дочерей и немалое количество остроумнейших птенцов, составляющих красу и утешение целого города. Затем, старшая дочь играет на фортепьяно, вторая дочь приятно поет романсы, третья танцует характерные танцы, четвертая пишет, как Севинье, пятая просто умна и т. д. Даже маленькие члены семейства и те имеют каждый свою специальность: Маша декламирует басню Крылова, Люба поет "По улице мостовой", Ваня оденется ямщиком и пропляшет русскую.
-- Вы не поверите, мсьё NN, -- говорит обыкновенно хозяйка дома, -- как я счастлива в семействе; мы никогда не скучаем.
-- Да, мы никогда не скучаем, -- отзывается хозяин дома, широко и добродушно улыбаясь.
В приятном семействе главную роль обыкновенно играет maman, к которой и гости и дети обращаются. Эту maman я, признаюсь откровенно, не совсем-то долюбливаю; по моему мнению, она самая неблагонамеренная дама в целом Крутогорске (ограничимся одним этим милым мне городом). Мне кажется, что только горькая необходимость заставила ее сделать свой дом "приятным", -- необходимость, осуществившаяся в лице нескольких дочерей, которые, по достаточной зрелости лет, обещают пойти в семена, если в самом непродолжительном времени не будут пристроены. Мне кажется, что в то время, когда она, стиснувши как-то зубы, с помощью одних своих тонких губ произносит мне приглашение пожаловать к ним в один из следующих понедельников, то смотрит на меня только как на искусного пловца, который, быть может, отважится вытащить одну из ее утопающих в зрелости дочерей. Когда я бываю у них, то уверен, что она следит за каждым куском, который я кладу в рот; тщетно стараюсь я углубиться в свою тарелку, тщетно стараюсь сосредоточить всю свою мысль на лежащем передо мною куске говядины: я чувствую и в наклоненном положении, что неблагонамеренный ее взор насквозь пронизывает меня. Разговаривая с ней за ужином, я вижу, как этот взор беспрестанно косит во все стороны, и в то время, когда, среди самой любезной фразы, голос ее внезапно обрывается и принимает тоны надорванной струны, я заранее уж знаю, что кто-нибудь из приглашенных взял два куска жаркого вместо одного, или что лакеи на один из столов, где должно стоять кагорское, ценою не свыше сорока копеек, поставил шато-лафит в рубль серебром.
Вообще, посещая "приятное семейство" по понедельникам, я всегда нахожусь в самом тревожном положении. Во-первых, я постоянно страшусь, что вот-вот кому-нибудь недостанет холодного и что даже самые взоры и распорядительность хозяйки не помогут этому горю, потому что одною распорядительностью никого накормить нельзя; во-вторых, я вижу очень ясно, что Марья Ивановна (так называется хозяйка дома) каждый мой лишний глоток считает личным для себя оскорблением; в-третьих, мне кажется, что, в благодарность за вышеозначенный лишний глоток, Марья Ивановна чего-то ждет от меня, хоть бы, например, того, что я, преисполнившись яств, вдруг сделаю предложение ее Sevigne, которая безобразием превосходит всякое описание, а потому менее всех подает надежду когда-нибудь достигнуть тех счастливых островов, где царствует Гименей.
Некоторые, впрочем, из моих добрых знакомых искусно пользуются этим обстоятельством, чтобы совершенно истерзать сердце Марьи Ивановны. Мой друг Василий Николаич [См. "Буеракин" и "Христос воскрес!" (Прим. Салтыкова-Щедрина.)], например, никак не упустит случая, чтобы не накласть себе на тарелку каждого кушанья по два и даже по три куска, и половину накладенного сдает лакею нетронутою. Точно так же поступает он и с вином, если оно оказывается уж чересчур кислым. В этом случае он подзывает лакея к себе и без церемонии приказывает ему подать вина с другого стола, за которым сидят женихи и статские советники. Однажды даже, когда подавали Василью Николаичу блюдо жареной индейки, он сказал очень громко лакею: "Э, брат, да у вас нынче индейка-то, кажется, кормленая!" -- и вслед за тем чуть ли не половину ее стащил к себе на тарелку. Вследствие этого между Марьей Ивановной и Васильем Николаичем существует тайная вражда, и я даже сам слышал, как Марья Ивановна, обратясь к одному из статских советников, сказала: "Чего хочет от меня этот злой человек?"
Независимо от этих свойств, доказывающих ее материнскую заботливость, Марья Ивановна не прочь иногда и посплетничать, или, как выражаются в Крутогорске, вымыть ближнему косточки. Я положительно могу даже уверить, что она, в этом смысле, обладает весьма замечательными авторскими способностями. Главная ее тактика заключается в том, чтоб подойти к истязуемому предмету с слабой стороны: польстить, например, самолюбию, подъехать с участием и т. п. На молодежь это действует почти без промаха. Сказанное вовремя и кстати слово участия мгновенно вызывает наружу все, что таилось далеко на дне молодой души. Душа начинает тогда без разбора и без расчета выбрасывать все свои сокровища; иногда даже и привирает, потому что когда дело на откровенность пошло, то не приврать точно так же невозможно, как невозможно не наесться до отвала хорошего и вкусного кушанья. Но здесь-то и стережет вас Марья Ивановна; она кстати пожалеет вас, если вы, например, влюблены, кстати посмеется с вами, если вы, в шутливом русском тоне, рассказываете какую-нибудь новую штуку князя Чебылкина; но будьте уверены, что завтра же и любовь ваша, и проделка его сиятельства будут известны целому городу. На этот счет у Марьи Ивановны имеется также своя особая сноровка. Сохрани бог, чтоб она назвала вас или сказала кому-нибудь, что вы в том-то ей сознались или то-то ей рассказали. Нет, она подходит к какой-нибудь Анфисе Петровне и издалека начинает с ней следующего рода разговор:
-- Вы знаете мсьё Щедрина? -- спрашивает Марья Ивановна.
-- Не имею этой чести, -- отвечает Анфиса Петровна, состроивши на лице бесконечно язвительную улыбку, потому что Анфисе Петровне ужасно обидно, что мсьё Щедрин, с самого дня прибытия в Крутогорск, ни разу не заблагорассудил явиться к ней с почтением. Замечу мимоходом, что Марья Ивановна очень хорошо знает это обстоятельство, но потому-то она и выбрала Анфису Петровну в поверенные своей сплетни, что, во-первых, пренебрежение мсьё Щедрина усугубит рвение Анфисы Петровны, а во-вторых, самое имя мсьё Щедрина всю кровь Анфисы Петровны мгновенно превратит в сыворотку, что также на руку Марье Ивановне, которая, как дама от природы неблагонамеренная, за один раз желает сделать возможно большую сумму зла и уязвить своим жалом несколько персон вдруг.
-- Какой милый, прекрасный молодой человек! -- продолжает Марья Ивановна, видя, что Анфису Петровну подергивает судорога, -- если б в Крутогорске были всё такие образованные молодые люди, как приятно было бы служить моему Алексису!
-- Их все хвалят! -- ехидно произносит Анфиса Петровна, переполняясь оцтом и желчью.
-- И между тем, представьте, как он страдает! Вы знаете Катерину Дмитриевну? -- бедненький!
Анфиса Петровна чуть дышит, чтоб не проронить ни одного слова.
-- Ведь вы знаете, entre nous soit dit [между нами говоря (франц.)], что муж ее... (Марья Ивановна шепчет что-то на ухо своей собеседнице.) Ну, конечно, мсьё Щедрин, как молодой человек... Это очень понятно! И представьте себе: она, эта холодная, эта бездушная кокетка, предпочла мсье Щедрину -- кого же? -- учителя Линкина! Vous savez?.. Mais elle a des instincts, cette femme!!! [Знаете?.. Ведь эта женщина не без темперамента!!! (франц.)]
И, несмотря на все свое сострадание к мсьё Щедрину, Марья Ивановна хохочет, но каким-то таким искусственным, деланным смехом, что даже Анфисе Петровне становится от него жутко.
-- Этого всегда должно было ожидать, -- отвечает кратко собеседница.
-- Я его сегодня спрашиваю, отчего вы, мсьё Щедрин, такой бледненький? А он мне: "Ах, Марья Ивановна, если б вы знали, что в моем сердце происходит!.." Бедненький!
И тот же деланный смех снова коробит Анфису Петровну, которая очень любит россказни Марьи Ивановны, но не может привыкнуть к ее смеху.
-- Так вы думаете, что Катерина Дмитриевна?..
-- Еще бы! -- отвечает Марья Ивановна, и голос ее дрожит и переходит в декламацию, а нос, от душевного волнения, наполняется кровью, независимо от всего лица, как пузырек, стоящий на столе, наполняется красными чернилами, -- еще бы! вы знаете, Анфиса Петровна, что я никому не желаю зла -- что мне? Я так счастлива в своем семействе! но это уж превосходит всякую меру! Представьте себе...
Тут начинается шепот, который заключается словами: "Ну, скажите на милость!" И должно быть, в этом шепоте есть что-то весьма сатанинское, потому что Анфиса Петровна довольна полученными сведениями выше всякого описания.
Что касается до главы семейства, то он играет в своем доме довольно жалкую роль и значением своим напоминает того свидетеля, который, при следствии, на все вопросы следователя отвечает: запамятовал, не знаю и не видал. Он очень счастлив по понедельникам, потому что устроивает в этот день себе копеечную партию, и хотя партнеры его беспощадно ругают, потому что он в карты ступить не умеет, но он не обижается. Сверх того, в эти дни он имеет возможность наесться досыта, ибо носятся слухи, что Марья Ивановна, как отличная хозяйка, держит обыкновенно и его, и всю семью впроголодь. Если кто-нибудь с ним заговаривает, а это случается лишь в тех случаях, когда желают потешиться над его простодушием, лицо его принимает радостно-благодарное выражение, участие же в разговоре ограничивается тем, что он повторяет последние слова своего собеседника.
Василий Николаич не преминул воспользоваться и этим обстоятельством. Несколько понедельников сряду, к общему утешению всей крутогорской публики, он рассказывал Алексею Дмитричу какую-то историю, в которой одно из действующих лиц говорит: "Ну, положим, что я дурак", и на этих словах прерывал свой рассказ.
-- Я дурак, -- кротко повторял Алексей Дмитрич.
-- Ах, что это какой ты рассеянный, Алексис! -- отзывается вдруг Марья Ивановна, прислушавшаяся к разговору.
Вообще, Василий Николаич смотрит на Алексея Дмитрича как на средство самому развлечься и других позабавить. Он показывает почтеннейшей публике главу "приятного семейства", как вожак показывает ученого медведя.
Говорят, будто Алексей Дмитрич зол, особливо если натравит его на кого-нибудь Марья Ивановна. Я довольно верю этому, потому что и из истории известно, что глупые люди и обезьяны всегда злы под старость бывали.
-- Умный человек-с, -- говаривал мне иногда по этому поводу крутогорский инвалидный начальник, -- не может быть злым, потому что умный человек понятие имеет-с, а глупый человек как обозлится, так просто, без всякого резона, как индейский петух, на всех бросается. Вот хоть бы Алексей Дмитрич! за что они на меня сердятся? За то, что я коляски для них в мастерской не сделал? Точно мне жалко мастеровых-с, или я обязанности своей не понимаю-с! Докладывал я им сколько раз, что материялу у меня такого не имеется -- так нет, сударь! заладил одно: не хочешь да не хочешь; ну, и заварили кашу. Посудите сами, я-то чем же тут виноват?.. Оно и выходит, что и перевернешься -- бьют, и не перевернешься -- бьют: вот она, какова гусарская служба!
О прочих членах семейства сказать определительного ничего нельзя, потому что они, очевидно, находятся под гнетом своей maman, которая дает им ту или другую физиономию, по своему усмотрению. Несомненно только то, что все они снабжены разнообразнейшими талантами, а дочери, сверх того, в знак невинности, называют родителей не иначе, как "папасецка" и "мамасецка", и каким-то особенным образом подпрыгивают на ходу, если в числе гостей бывает новое и в каком-нибудь отношении интересное лицо.
Приехавши, в один из таких понедельников, к Размановским, я еще на лестнице был приятно изумлен звуками музыки, долетавшими до меня из передней. Действительно, там сидело несколько батальонных солдат, которые грустно настраивали свои инструменты.
-- Слышь, Ильин, -- говорил старший музыкант Пахомов, -- ты у меня смотри! коли опять в аллегру отстанешь, я из тебя самого флейту и контрабас сделаю
-- А что, верно, я рано забрался? -- спрашиваю я у Василия Николаича, одиноко расхаживающего по зале.
-- Да; вот я тут с полчаса уж дежурю, -- отвечает он с некоторым ожесточением, -- и хоть ты что хочешь! и кашлять принимался, и ногами стучал -- нейдет никто! а между тем сам я слышу, как они в соседней комнате разливаются-хохочут!
-- Да по какому случаю сегодня бал у Размановских?
-- Разве вы не знаете? Ведь сегодня день ангела Агриппины, той самой, которая на фортепьянах-то играет. Ах, задушат они нас нынче пением и декламацией!
И точно, в соседней комнате послышалась визгливая рулада, производимая не столько приятным, сколько усердным голосом третьей дочери, Клеопатры, которая, по всем вероятиям, репетировала арию, долженствовавшую восхитить всех слушателей.
В это время вошел в комнату сам Алексей Дмитрич, и вслед за тем начали съезжаться гости.
-- Вы, верно, спали? -- спросил Василий Николаич хозяина.
-- Спали, -- отвечал тот кротко.
-- А ведь знаете, коли зовете вы к себе гостей, так спать-то уж и не годится.
-- Уж и не годится, -- повторил старец. Мало-помалу образовались в зале кружки, и даже
Алексей Дмитрич, желая принять участие в общем разговоре, начал слоняться из одного угла в другой, наводя на все сердца нестерпимое уныние. Женский пол скромно пробирался через зал в гостиную и робко усаживался по стенке, в ожидании хозяек.
-- Ну что, вы как поживаете, господа? -- спросил я, подходя к кучке гарнизонных офицеров, одетых с иголочки и в белых перчатках на руках.
-- Славу богу, Николай Иваныч, -- отвечал один из них, -- нынешним летом покормились-таки; вот и мундирцы новенькие пошили.
-- Как же это вы "покормились"?
-- Да вот партию сводили-с, так тут кой-чего к ладоням пристало-с...
Я ужасно люблю господ гарнизонных офицеров. Есть у них на все этакой взгляд наивный, какого ни один человек в целом мире иметь не может. Нынче гитара и флейта даже у приказных вывелись, а гарнизонный офицер остается верен этим инструментам до конца жизни, потому что посредством их он преимущественно выражает тоску души своей. Обойдут ли его партией -- он угрюмо насвистывает "Не одна во поле дороженька"; закрадется ли в сердце его вожделение к женской юбке -- он уныло выводит "Черный цвет", и такие вздохи на флейте выделывает, что нужно быть юбке каменной, чтобы противостоять этим вздохам. На целый мир он смотрит с точки зрения пайка; читает ли он какое-нибудь "сочинение" -- думает: "Автор столько-то пайков себе выработал"; слышит ли, что кто-нибудь из его знакомых место новое получил -- говорит: "Столько-то пайков ему прибавилось". Вообще они очень добрые малые и преуслужливые. На балах, куда их приглашают целою партией, чтоб девицы не сидели без кавалеров, они танцуют со всем усердием и с величайшею аккуратностию, не болтая ногами направо и налево, как штатские, а выделывая отчетливо каждое па. Марья Ивановна очень любит эту отчетливость и видит в ней несомненный знак преданности к ее особе.
-- Посмотрите, как ваш Коловоротов от души танцует! -- относится она к инвалидному начальнику, который самолично наблюдает, чтобы господа офицеры исполняли свои обязанности неуклонно.
-- Усердный офицер-с! -- отвечает командир угрюмо.
Но обращаюсь к рассказу.
-- О чем же вы так смеялись тут, господа? -- спрашиваю я того же офицера, который объяснял мне значение слова "покормиться".
-- Да вот Харченко анекдот рассказывал...
Общий смех.
-- Вот-с, изволите видеть, -- подхватывает торопливо Харченко, как будто опасаясь, чтобы Коловоротов или кто-нибудь другой не посягнул на его авторскую славу, -- вот изволите видеть: стоял один офицер перед зеркалом и волосы себе причесывал, и говорит денщику: "Что это, братец, волосы у меня лезут?" А тот, знаете, подумавши этак минут с пять, и отвечает: "Весною, ваше благородие, всяка скотина линяет..." А в то время весна была-с, -- прибавил он, внезапно краснея.
Новый взрыв смеха.
-- И ведь "подумавши" -- вот что главное! -- говорит прапорщик Коловоротов.
-- "Линяет"! -- повторяет другой прапорщик, едва удерживая порывы смеха, одолевающие его юную грудь.
Но этот анекдот я уже давно слышал, и даже вполне уверен, что и все господа офицеры знают его наизусть. Но они невзыскательны, и некоторые повествования всегда производят неотразимый эффект между ними. К числу их относятся рассказы о том, как офицер тройку жидов загнал, о том, как русский, квартируя у немца, неприличность даже на потолке сделал, и т. д.
Я подхожу к другой группе, где друг мой Василий Николаич показывает публике медведя, то есть заставляет Алексея Дмитрича говорить разную чепуху. Около них собралась целая толпа народа, в которой немолчно раздается громкий и искренний смех, свидетельствующий о необыкновенном успехе представления.
-- Да нет, я что-то не понимаю этого, -- говорит Василий Николаич, -- воля ваша, а тут что-нибудь да не так.
-- Помилуйте, -- возражает Алексей Дмитрич, -- как же вы не понимаете? Ну, вы представьте себе две комиссии: одна комиссия и другая комиссия, и в обеих я, так сказать, первоприсутствующий... Ну вот, я из одной комиссии и пишу, теперича, к себе, в другую комиссию, что надо вот Василию Николаичу дом починить, а из этой-то комиссии пишу опять к себе в другую комиссию, что, врешь, дома чинить не нужно, потому что он в своем виде... понимаете?
-- Ну, и ладно выходит? -- спрашивает Василий Николаич.
-- Ну, и ладно выходит, -- повторяет Алексей Дмитрич.
Хохот, в котором хозяин дома принимает самое деятельное участие.
-- Нет, тут что-нибудь да не то, -- продолжает Василий Николаич, -- конечно, экилибр властей -- это слова нет; однако тут кто-нибудь да соврал. Поговорим-ка лучше об статистике.
-- Поговорим об статистике, -- повторяет Алексей Дмитрич.
-- Ну, каким же образом вы сведения собираете? Я что-то этого не понимаю. Сами ведь вы не можете сосчитать всякую овцу, и, однако ж, вот у вас значится в сведениях, что овец в губернии семьсот одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят три... Как же это?
Алексей Дмитрич улыбается.
-- Вот то-то и есть, -- говорит он, -- все это только по наружности трудно. Вам с непривычки-то кажется, что я сам пойду овец считать, ан у меня на это такие ходоки в уездах есть -- вот и считают! Мое дело только остановить их, коли заврутся, или прикрикнуть, если лениться будут. Вот, например, намеднись оковский исправник совсем одной статьи в своих сведениях не включил; ну, я, разумеется, сейчас же запрос: "Почему нет статьи о шелководстве?" Он отвечает, что потому этой статьи не включил, что и шелководства нет. Но он все-таки должен был в сведениях это объяснить.
-- Да, да, -- замечает Василий Николаич, -- иначе какая же это будет статистика! Вот я тоже знал такого точного администратора, который во всякую вещь до тонкости доходил, так тот поручил однажды своему чиновнику составить ведомость всем лицам, получающим от казны арендные деньги, да потом и говорит ему: "Уж кстати, любезнейший, составьте маленький списочек к тем лицам, которые аренды не получают". Тот сгоряча говорит "слушаю-с", да потом и приходит ко мне: "Что, говорит, я стану делать?" Ну, я и посоветовал на первый раз вытребовать ревизские сказки из всех уездных казначейств.
Взрыв хохота.
-- Николай Иваныч! Николай Иваныч! -- слышу я голос князя Льва Михайлыча, зовущего меня с другого конца залы.
Я устремляюсь всеми силами души своей и стараюсь придать своему лицу благодарное и радостное выражение, потому что имею честь служить под непосредственным начальством его сиятельства.
-- Мы здесь рассуждаем об том, -- говорит он мне, -- какое нынче направление странное принимает литература -- всё какие-то нарывы описывают! и так, знаете, все это подробно, что при дамах даже и читать невозможно... потому что дама -- vous concevez, mon chХr! [вы понимаете, мой милый! (франц.)] -- это такой цветок, который ничего, кроме тонких запахов, испускать из себя не должен, и вдруг ему, этому нежному цветку, предлагают навозную кучу... согласитесь, что это неприятно...
Я молча кланяюсь.
-- Знакомят с какими-то лакеями, мужиками, солдатами... Слова нет, что они есть в природе, эти мужики, да от них ведь пахнет, -- ну, и опрыскай его автор чем-нибудь, чтобы, знаете, в гостиную его ввести можно. А то так со всем, и с запахом, и ломят... это не только неприлично, но даже безнравственно...
У князя показываются слезы на глазах, потому что он очень добрый человек.
-- Вот пошла, например, нынче мода на взяточничество нападать, -- продолжает он. -- Ну, конечно, это не хорошо взятки брать -- кто же их защищает? mais vous concevez, mon cher, делай же он это так, чтоб читателю приятно было; ну, представь взяточника, и изобрази там... да в конце-то, в конце-то приготовь ему возмездие, чтобы знал читатель, как это не хорошо быть взяточником... а то так на распутий и бросит -- ведь этак и понять, пожалуй, нельзя, потому что, если возмездия нет, стало быть, и факта самого нет, и все это одна клевета...
-- Это совершенно справедливо ваше сиятельство изволили заметить, -- вступается Порфирий Петрович, которого очень радует изреченная князем аксиома, что безнаказанность есть синоним невинности, -- это совершенно справедливо, что голословно можно и самого чистого человека оклеветать.
-- Я и сам не прочь иногда посмеяться, -- снова проповедует его сиятельство, -- il ne faut pas Йtre toujours taciturne, c'est mauvais genre! [не следует быть всегда молчаливым, это дурная манера! (франц.)] мрачные физиономии бывают только у лакеев, потому что они озабочены, как бы им подноса не уронить; ну, а мы с подносами не ходим, следовательно, и приличие требует иногда посмеяться; но согласитесь, что у наших писателей смех уж чересчур звонок... Вот, например, я составил проект комедии, выслушайте и скажите свое мнение. На сцене взяточник, он там обирает, в карманы лезет -- можно обрисовать его даже самыми черными красками, чтобы, знаете, впечатление произвесть... Зритель увлечен; он уже думает, что личность его не безопасна, он ощупывает свои собственные карманы... Но тут-то, в эту самую минуту, и должна проявиться благонамеренность автора. В то самое время, как взяточник снимает с бедняка последний кафтан, из задней декорации вдруг является рука, которая берет взяточника за волосы и поднимает наверх... В этом месте занавес опускается, и зритель выходит из театра успокоенный и не застегивает даже своего пальто.
-- Это справедливо, -- говорит Василий Николаич, который как-то незаметно подкрался к нам, -- комедия вышла бы хорошая, только вряд ли актера можно такого сыскать, который согласился бы, чтоб его тащили кверху за волосы.
-- Можно на это время куклой подменить, -- отзывается князь довольно сухо.
Но в зале вдруг делается тихо. Является Марья Ивановна под руку с именинницей; прочие цветки роскошного букета скромно следуют сзади.
Князь Лев Михайлыч, семеня ножками, поспешает навстречу Марье Ивановне.
-- Vous voilЮ comme toujours, belle et parИe! [Вот и вы, как всегда, красивая и нарядная! (франц.)] -- говорит он, обращаясь к имениннице. И, приятно округлив правую руку, предлагает ее Агриппине Алексеевне, отрывая ее таким образом от сердца нежно любящей матери, которая не иначе как со слезами на глазах решается доверить свое дитя когтям этого оплешивевшего от старости коршуна. Лев Михайлыч, без дальнейших церемоний, ведет свою даму прямо к роялю.
-- Начинается истязание, -- шепотом говорит мне Василий Николаич, который, несмотря на все свое остроумие, несколько побаивается Марьи Ивановны и не решается говорить вблизи ее громко.
Агриппина Алексеевна садится к роялю, отряхивает свои кудри и, приняв вид отчасти вдохновенный, отчасти полоумный, начинает разыгрывать какой-то "RЙve" ["Греза" (франц.)]. Я совершенно убежден, что в эту сладкую минуту она отнюдь не сомневается, что стихотворение Шиллера "Laure am Klavier" ["Лаура у клавесина" (нем.)] написано к ней и что имя Лауры есть не что иное, как грустная опечатка.
-- Прекрасно! превосходно! с каким чувством! -- слышится со всех сторон во время игры, а под конец пиесы зала наполняется громом аплодисманов.
Надо сказать здесь, что у Марьи Ивановны имеется в запасе свой entrepreneur de succХs [устроитель успеха (франц.)], детина рыжий и с весьма развитыми мускулами, который не только сам аплодирует, но готов прибить всякого другого, кому вздумалось бы не аплодировать. Эта ехидная гадина, порождение провинцияльного клиентизма, угрюмо озирается во все стороны, как бы выискивая в толпе жертву, на которую можно было бы ему нашептать в уши Марье Ивановне. За этот бдительный надзор и за разные другие послуги, преимущественно по предмету заднекрылечного знакомства с уездными чиновниками и подрядчиками, совершающегося под печатью ненарушимой тайны, клиент пользуется чрезвычайною благосклонностью Марьи Ивановны и, кроме процентов в общих прибылях, имеет всегда готовый куверт за столом ее.
Марья Ивановна в восторге от похвал, отовсюду раздающихся ее дочери, но вместе с этим она грустно потрясает головой.
-- Если бы вы знали, -- говорит она князю Льву Михайлычу, -- если бы вы знали, mon cher prince [дорогой князь (франц.)], чего нам стоили все эти уроки: ведь Агриппина -- ученица Герке...
-- Шш... -- раздается по зале, и все скромно рассаживаются по стульям, расставленным вдоль стен.
В середину залы выступает вторая дочь Марьи Ивановны, Аглаида, и звучным контральтовым голосом произносит стихи:
Тебя с днем ангела, сестра, я поздравляю,
Сестра! любимица зиждителя небес!
От сердца полноты всех благ тебе желаю,
И чтоб коварный ветр малютку не унес...
-- Коварный ветр -- это муж, -- замечает Василий Николаич, -- а малютка -- сама виновница настоящего торжества!.. и заметьте: "небес" -- "не унёс".
Аглаида продолжает:
С гнезда родимого от отческа крыла
Судьбина жесткая малютку унесла.
Мать безутешная! лети скорее, плачь:
Невинного птенца задушит сей палач...
-- Да не вы ли "сей палач"? -- обращается ко мне опять Василий Николаич, -- а я думал, что долго не дождаться Агриппине "сего палача".
Прими ж, сестра, мое ты поздравленье,
И да услышит бог последнее моленье:
Да ниспошлет тебе он сердца чистоту
И да низвержет в прах злодеев клевету.
-- А ведь "клевету"-то на ваш счет сказано, -- говорю я, в свою очередь, Василию Николаичу.
-- Может быть, -- отвечает он, -- а это она хорошо сделала, что пожелала Агриппине чистоты: опрятность никогда не мешает.
Гости начинают уже стучать стульями, в чаянье, что испытание кончилось и что можно будет приступить к настоящим действиям, составляющим цель всякого провинцияльного праздника: танцам и висту. Но надежда и на этот раз остается обманутою. К роялю подходят Клеопатра и Агриппина.
-- Эти же стихи, переложенные на музыку Агриппиной Алексеевной, будет петь Клеопатра Алексеевна, -- объясняет рыжий клиент, проходя мимо нас.
-- Выходит, что именинница сама себя поздравляет, -- пополняет Василий Николаич: -- Никем же не мучими сами ся мучаху...
Именинница аккомпанирует, а Клеопатра Алексеевна разливается. В патетических местах она оборачивается к публике всем корпусом, и зрачки глаз ее до такой степени пропадают, что сам исправник Живоглот -- на что уж бестия -- ни под каким видом их нигде не отыскал бы, если б на него возложили это деликатное поручение. Пение кончается, и на этот раз аплодисманы раздаются с учетверенною силой, потому что все эти колодники, сидевшие вдоль стены, имеют полную надежду, что сюрпризы прекратились и они могут отправиться каждый по своему делу. И действительно, разносится слух, что поздравительный танец, предназначенный к исполнению через малолетных членов "приятного семейства", отложен до следующего понедельника.
-- А очень жаль, очень жаль, -- говорит Порфирий Петрович, подходя к Марье Ивановне, -- очень было бы приятно полюбоваться, как эти ангельчики...
Марья Ивановна готова уже дать знак клиенту, чтобы исполнить желание гостей, но Порфирий Петрович, сам испугавшийся своего успеха, прибавляет:
-- Впрочем, это удовольствие еще не ушло от нас: в следующий понедельник...
-- Ну, то-то же! -- шепчет Василий Николаич, -- а то проврался было, старик!
В соседней комнате карточные столы уже заняты, а в передней раздаются первые звуки вальса. Я спешу к княжне Анне Львовне, которая в это время как-то робко озирается, как будто ища кого-то в толпе. Я подозреваю, что глаза ее жаждут встретить чистенького чиновника Техоцкого [См. "Княжна Анна Львовна". (Прим. Салтыкова-Щедрина.)], и, уважая тревожное состояние ее сердца, почтительно останавливаюсь поодаль, в ожидании, покуда ей самой угодно будет заметить меня.
-- Ah, c'est vous [А, это вы (франц.)], мсьё Щедрин? -- говорит она наконец, подавляя вздох, созревший в ее груди.
И мы несемся как вихрь по зале.
Княжна вообще очень ко мне внимательна, и даже не прочь бы устроить из меня поверенного своих маленьких тайн, но не хочет сделать первый шаг, а я тоже не поддаюсь, зная, как тяжело быть поверенным непризнанных страданий и оскорбленных самолюбий. В этот вечер она как-то ожесточена, смеется лихорадочным смехом и все будто хочет о чем-то спросить меня, но не придумает, как это сделать. Я знаю, что она хочет спросить, почему нет в числе гостей Техоцкого; но я не объясняю ей истинных причин этого отсутствия, потому что это могло бы огорчить ее. Мне известно, что Техоцкий не приглашен Марьей Ивановной именно в пику княжне и в видах сохранения добрых нравов в городе Крутогорске.
-- Помилуйте, -- говорила мне сама Марья Ивановна, -- ведь она такая exaltХe [экзальтированная (франц.)], пожалуй, еще на шею ему вешаться станет, а у меня дочери-девицы!
-- Как вам кажется эта фантазия угощать произведениями своей домашней кухни? -- спрашивает меня княжна, когда мы уселись с ней рядом в кадрили. Очевидно, что она намекает на выставку талантов, производившуюся перед открытием танцев.
-- Вы знаете, княжна, -- отвечаю я, -- что я не имею никакого мнения на этот счет.
Но княжна, очевидно, меня не слушает.
-- И заметьте, -- продолжает она, -- как все это самодовольно навязывается вам! и эта Клеопатра с своим маринованным голосом, и этот идиот Алексис, и нахальная Марья Ивановна...
Княжна слегка вздрагивает, произнося это ненавистное для нее имя.
-- Вам начинать, -- говорю я.
-- А вы не знаете... -- спрашивает она, когда мы сели на места, и вдруг останавливается.
-- Что?
-- Нет, так... я хотела, кажется, сказать какую-то глупость... вы не знаете, отчего здесь всегда пахнет скукой?
-- Я опять-таки повторяю вам, княжна, что не имею здесь никакого мнения...
-- Да, я и забыла, что вы человек осторожный... однако, в самом деле, вы не знаете, отчего...
И опять спотыкается, и неизвестно почему, мне вдруг становится ужасно жалко ее.
-- ...Здесь нет Техоцкого? -- продолжает она, начиная третью фигуру.
В провинции лица умеют точно так же хорошо лгать, как и в столицах, и если бы кто посмотрел в нашу сторону, то никак не догадался бы, что в эту минуту разыгрывалась здесь одна из печальнейших драм, в которой действующими лицами являлись оскорбленная гордость и жгучее чувство любви, незаконно попранное, два главные двигателя всех действий человеческих.
-- Бедная княжна! -- повторяю я мысленно.
-- Мы и позабыли позвать мсьё Техоцкого! -- говорит Марья Ивановна, подходя к нам.
-- А! -- восклицает княжна, смотря на нее с изумлением.
-- А он такой милый молодой человек! -- продолжает Марья Ивановна спокойно, но таким голосом, что княжна непременно должна расслышать хохот, затаившийся в груди этой "неблагонамеренной" дамы.
-- Очень жаль, -- отвечает княжна.
-- Вы не знаете, где он живет? -- спрашивает Марья Ивановна, как будто ошибкой обращаясь к княжне, -- ах, pardon, princesse [простите, княжна (франц.)], я хотела спросить мсьё Щедрина... вы не знаете, мсьё Щедрин, где живет господин Техоцкий?
-- Не имею этого удовольствия.
-- Очень жаль, потому что за ним можно было бы послать... он сейчас придет: он такой жалкий! Ему все, что хотите, велеть можно! -- И, уязвив княжну, неблагонамеренная дама отправляется далее язвить других.
Но танцам, как и всему в мире, есть конец. Наступает страшная для Марьи Ивановны минута ужина, и я вижу, как она суетится около Василия Николаича, стараясь заранее заслужить его снисходительность.
-- Будьте любезны с Василием Николаичем, -- говорю я княжне.
Она понимает меня и улыбается. Я тоже улыбаюсь, потому что вижу впереди богатое развлечение. Княжна подходит к моему другу и в несколько минут исключительно завладевает его вниманием. Надобно сказать, что Василий Николаич, происходя от "бедных, но благородных родителей", ужасно любит, чтобы за ним ухаживали сильные мира сего. Впрочем, он вообще всегда бывал как-то особенно и бескорыстно снисходителен к княжне, за что я очень уважал его. Марья Ивановна с судорожным беспокойством следит за ними; она с ужасом видит, что уехало всего два человека, а все остальные стоически дожидаются ужина.
-- Не протанцевать ли еще польку до ужина, princesse? -- говорит она, в чаянии, что кто-нибудь уедет тем временем.
Но грозной судьбе не угодно споспешествовать намерениям Марьи Ивановны. В то самое время, как она кончает свою фразу, лакеи, каким-то чудом ускользнувшие из-под ее надзора, с шумом врываются в залу, неся накрытые столики.
-- Милости просим, милости просим, господа, ужинать! -- невпопад кричит Алексей Дмитрич, широко разевая рот.
-- Уж хоть бы ты-то молчал! -- вполголоса говорит Марья Ивановна, в досаде не скрывая даже своих чувств. -- Mesdames! -- прибавляет она с кислою улыбкой.
Но на первом же шагу встречается препятствие. Приборов подано на тридцать персон, а желающих ужинать оказывается налицо сорок человек. Десяти человекам решительно нет места на "жизненном пире", и в числе этих исключенных обретается Василий Николаич. Он приходит в неистовство и громко протестует против исключения. Марья Ивановна чует беду и выгоняет из-за стола Алексиса, который уже уселся и не прочь, пожалуй, вступить в бой с Марьей Ивановной за право ужинать. Сей достопочтенный муж, жертва хозяйственных соображений своей супруги, до такой степени изморен голодом, что готов, как Исав, продать право первородства за блюдо чечевицы.
Но Василий Николаич за все радушие хозяйки отплачивает самою черною неблагодарностью. Он тут же распускает слух, что собственными глазами видел, как собирали с полу упавшее с блюда желе и укладывали вновь на блюдо, с очевидным намерением отравить им гостей. Марья Ивановна терпит пытку, потому что гарнизонные офицеры, оставшиеся за штатом и больше всех других заслужившие право на ужин, в голодной тоске переглядываются друг с другом.
-- Что, брат! -- говорит Василий Николаич прапорщику Коловоротову, -- видно, не заслужил! а мы вот, видишь, какую индейку тут кушаем!
-- Вам сейчас подадут, господа! -- лебезит Марья Ивановна, -- уж вы покушайте стоя, как бог послал!
-- Дожидайся -- подадут! -- отзывается Василий Николаич.
И действительно, блюда проходят мимо "сверхштатных" совершенно опустошенными, и ужин оканчивается, не уделив им ни единой крупицы.
Надо отдать полную справедливость Марье Ивановне: она тоже ничего не ела.
-- Ух, скуки-то, скуки-то! -- говорит господин Змеищев, сходя по лестнице.
-- А каков ужин-то? -- спрашивает Василий Николаич у Харченки, который идет понурив голову...
-- В самом деле... ах, срам какой! -- замечает Порфирий Петрович.
-- А я-то старался, всех удерживал, -- говорит Василий Николаич.
Все смеются.
-- Ну, уж "приятное" семейство! -- раздается чей-то голос в толпе.
БОГОМОЛЬЦЫ, СТРАННИКИ И ПРОЕЗЖИЕ
ОБЩАЯ КАРТИНА
Утро. Спят еще чиновники крутогорские, утомленные тянувшимся за полночь преферансом; спят негоцианты, угоревшие от излишнего употребления с вечера водки и тенерифа; откупщик разметал на постели нежное свое тело, и снится ему сон... Снится ему, будто чиновникам не нужно давать ни денег, ни водки, а кабаки по-прежнему открываются до обедни и закрываются далеко за полночь. Частный пристав Рогуля выполз на минуту из-под стеганого одеяла, глянул мутными глазами на улицу, испил кваску, молвил: "Рано!" -- и побрел опять на кровать досыпать веселый сон.
Однако на улице уже шумно и людно; толпы женщин всякого возраста, с котомками за плечами и посохами в руках, тянутся длинными вереницами к соборной площади. Уже показалось веселое солнышко и приветливо заглянуло всюду, где праздность и изнеженность не поставили ему искусственных преград; заиграло оно на золоченых шпилях церквей, позолотило тихие, далеко разлившиеся воды реки Крутогорки, согрело лучами своими влажный воздух и прогнало, вместе с тьмою, черную заботу из сердца... Солнышко, солнышко! как не любить тебя!
Май уж на исходе. В этот год он как-то особенно тепел и радошен; деревья давно оделись густою зеленью, которая не успела еще утратить свою яркость и приобрести летние тусклые тоны. В воздухе, однако ж, слышится еще весенняя свежесть; реки еще через край полны воды, а земля хранит еще свою плодотворную влажность на благо и крепость всякому злаку растущему.
Соборная площадь кипит народом; на огромном ее просторе снуют взад и вперед пестрые вереницы богомолок; некоторые из них, в ожидании благовестного колокола, расположились на земле, поближе к полуразрушенному городскому водоему, наполнили водой берестяные бураки и отстегнули запыленные котомки, чтобы вынуть оттуда далеко запрятанные и долгое время береженные медные гроши на свечу и на милостыню. Тут же, между ними, сидят на земле группы убогих, слепых и хромых калек, из которых каждый держит в руках деревянную чашку и каждый тянет свой плачевный, захватывающий за душу стих о пресветлом потерянном рае, о пустынном "нужном" житии, о злой превечной муке, о грешной душе, не соблюдавшей ни середы, ни пятницы... Тут же, около воткнутых в землю колышков, изображающих собою временные ярмарочные помещения, толкаются расторопные мещане и подгородные крестьяне, притащившиеся на ярмарку с бураками, ведерками, горшками и другим деревенским припасом. И весь этот люд суетится, хлопочет и беспрерывно обновляется новыми толпами богомолок, приходящими бог весть из каких стран. Гул толпы ходит волнами по площади, принимая то веселые и беззаботные, то жалобные и молящие, то трезвые и суровые тоны.
У меня во пустыни много нужи прияти,
У меня во пустыни постом попоститися,
У меня во пустыни скорбя поскорбети,
У меня во пустыни терпя потерпети...
-- голосит заунывно одна группа нищих, и десятки рук протягиваются с копеечками к деревянным чашкам убогих калек.
-- Помолись, родимый, за меня! помолись, миленький! -- говорит молодая бабенка, опуская свою копеечку в чашку слепенького старика, сидящего на корточках; но он, не обращая на это внимания, продолжает тоскливо тянуть свою песню:
Не страши мя, пустыня, превеликиими страхами...
-- Издалеча, касатка, пришли? -- спрашивает молодуху сгорбленная и сморщенная старуха, тут же остановившаяся с суковатою клюкой своей.
-- Из Зырян, родимая, верст полтысячи боле будет; с самого с Егорьева дни идем угоднику поклониться [Из Зырян, в Зыряны. Таким образом простой народ называет Усть-Сысольский уезд и смежные ему местности Вологодской, Пермском и Вятской губерний. (Прим. Салтыкова-Щедрина.)].
-- По обещанью, что ли?
-- Пообещалась, баушка; вот третий год замужем, а деток все бог не дает...
Старуха вздыхает.
-- А мы так вот тутошние, -- говорит она, шамкая губами, -- верст за сто отселева живем... Человек я старый, никому не нужный, ни поробить, ни в избе посмотреть... Глазами-то плохо уж вижу; намеднись, чу, робенка -- правнучка мне-то -- чуть в корыте не утопила... Вот и отпустили к угоднику...
-- Чай, пешком пришла, баунька? -- спрашивает молодуха, покачивая головой.
-- На своих все на ногах... охромела я нонече, а то как бы не сходить сто верст!.. больно уж долго шла... ох, да и котомка-то плечи щемит!
Молодуха молчит, поглядывая, пригорюнившись, на старуху.
-- Чтой-то уж и смерть-то словно забыла меня, касатка! -- продолжает старуха, -- ровно уж и скончания житию-то не будет... а тоже хлеб ведь ем, на печи чужое место залеживаю... знобка я уж ноне стала!
-- Чай, и грошика-то у тебя, баушка, нету?
-- Нет, таки дал внучек грошик... Сынок-от у меня, видно, помер, так внучек в дому хозяйствует... дал грошик... как же! свечу поставить надо...
Новая толпа богомолок прерывает начатой разговор.
Всякиим грешникам
Будет мука разная.. --
раздается в одной группе нищих...
Народился злой антихрист,
Во всю землю он вселился,
Во весь мир он воружился,
Стали его волю творити
Власы, бороды стали брити,
Латынскую одежду носити. --
раздается в другой группе.
"Порадейте, православные! на церковное строение! святому угоднику на встретение!" -- так взывает небольшой, колченогий мужичок, бойко пробираясь на своей деревяшке сквозь густую толпу богомольцев. Через плечо у него перекинута ременная перевязь, с прикрепленным к ней небольшим деревянным ящиком, в который православные опускают свои посильные жертвы.
-- Здравствуйте, барин миленький! -- говорит мне добрая гражданка Палагея Ивановна, встречаясь со мной.
-- Здравствуйте, Палагея Ивановна! скажите, пожалуйста, отчего нищие только и поют, что про антихриста да про муки разные?
-- И, барин! это уж заведенье у них такое, не замай их!
Палагея Ивановна ходит по площади с мешком медных денег и раздает их нищим и бедным богомолкам, вроде той старухи, о которой упомянуто выше. За ней плетется шестилетняя племянница с калачиком в руках и по временам отламывает от него воробьиную дачу.
-- Тетонька! дать слепенькому калачика? -- спрашивает она всякий раз Палагею Ивановну.
-- Дай, умница, слепенький за тебя богу помолит.
И воробьиная дача, вместе с копеечкой Палагеи Ивановны, опускается в чашку убогого.
-- А ведь ваша Сашенька будет предобрая, -- говорю я Палагее Ивановне.
-- Ничего, барин, пущай приучается.
Палагея Ивановна продолжает свой обход и всех наделяет грошиками; Сашенька тоже вынимает из узелка третий калачик и, по мере своего разумения, подражает делу благотворения своей тетки.
Есть люди, которые думают, что Палагея Ивановна благотворит по тщеславию, а не по внутреннему побуждению своей совести, и указывают в особенности на гласность, которая сопровождает ее добрые дела. Я, с своей стороны, искренно убежден, что это мнение самое неосновательное, потому что достаточно взглянуть на ее милое, сияющее добродушием и искренностию лицо, чтоб убедиться, что этой свежей и светлой натуре противна всякая ложь, всякое притворство. Если все ее поступки гласны, то это потому, что в провинции вообще сохранение тайны -- вещь материяльно невозможная, да и притом потребность благотворения не есть ли такая же присущая нам потребность, как и те движения сердца, которые мы всегда привыкли считать законными? Следовательно, и она так же, как эти последние, должна удовлетворяться совершенно естественно, без натяжек, без приготовлений, без задней мысли, по мере того как представляется случай, и Палагея Ивановна, по моему мнению, совершенно права, делая добро и тайно и открыто, как придется.
Я вообще чрезвычайно люблю наш прекрасный народ, и с уважением смотрю на свежие и благодушные типы, которыми кишит народная толпа. Конечно, мы с вами, мсьё Буеракин, или с вами, мсьё Озорник, слишком хорошо образованны, чтоб приходить в непосредственное соприкосновение с этими мужиками, от которых пахнет печеным хлебом или кислыми овчинами, но издали поглядеть на этих загорелых, коренастых чудаков мы готовы с удовольствием. Я даже с гордостью сознаюсь, что когда на театре автор выводит на первый план русского мужичка и рекомендует ему отхватать вприсядку или же, собрав на сцену достаточное число опрятно одетых девиц в телогреях, заставляет их оглашать воздух звуками русской песни, я чувствую, что в сердце моем делается внезапный прилив, а глаза застилаются туманом, хотя, конечно, в камаринской нет ничего унылого.
"Grands dieux [Великий боже (франц.)], -- говорю я себе, выходя из театра, -- как мы, однако ж, выросли, как возмужали! Давно ли русский мужичок, cet ours mal lХchХ [этот сиволапый (франц.)], являлся на театральный помост за тем только, чтоб сказать слово "кормилец", "шея лебединая, брови соболиные", чтобы прокричать заветную фразу, вроде "идем!", "бежим!", или же отплясать где-то у воды полуиспанский танец -- и вот теперь он как ни в чем не бывало семенит ногами и кувыркается на самой авансцене и оглашает воздух неистовыми криками своей песни! Grands dieux! как мы выросли!"
Но я оставляю свои размышления до более удобного времени и продолжаю свое странствование по площади.
На бревнах, наваленных в одном углу ее, я вижу несколько странниц, севших для отдыха.
-- Житье-то у нас больно неприглядное, Петровна, -- говорит одна из них, пожилая женщина, -- земля -- тундра да болотина, хлеб не то родится, не то нет; семья большая, кормиться нечем... ты то посуди, отколь подать-то взять?.. Ну, Семен-от Иваныч и толкует: надо, говорит, выселяться будет...
-- Поди, чай, старого-то места жалко? -- спрашивает ее собеседница.
-- Как не жалеть? известно, жалко! Кабы не нужда, так коли же от родителей без ума бежать!
-- Да ноне чтой-то и везде жить некорыстно стало. Как старики-то порасскажут, так что в старину-то одного хлеба родилось! А ноне и земля-то словно родить перестала... Да и народ без християнства стал... Шли мы этта на богомолье, так по дороге-то не то чтоб тебе копеечку или хлебца, Христа ради, подать, а еще тебя норовят оборвать... всё больше по лесочкам и ночлежничали.
-- Что говорить, Петровна! В нашей вот сторонке и не знавали прежде, каков таков замок называется, а нонче пошли воровства да грабительства... Господи! что только будет!
-- А далече ли переселенье-то вам будет?
-- Да бает старик, что далече, по-за Пермь, в сибирские страны перетаскиваться придется... Ты возьми, сколько одной дорогой-то нужи примешь!..
-- А вот от нас тоже в те стороны переселенцы бывали, так пишут, что куда там хорошо: и хлеб родится, и скотинка живет...
-- Так-то так, Петровна, да уж больно родителей жалко! Ведь их здесь и помянуть будет некому...
Рассказчица тяжело вздыхает, собеседница вторит ей, и разговор, по-видимому, стихает. Я говорю "по-видимому", потому что этой боли сердечной, этой нужде сосущей, которую мы равнодушно называем именем ежедневных, будничных явлений, никогда нет скончания. Они бесконечно зреют в сердце бедного труженика, выражаясь в жалобах, всегда однообразных и всегда бесплодных, но тем не менее повторяющихся беспрерывно, потому что человеку невозможно не стонать, если стон, совершенно созревший, без всяких с его стороны усилий, вылетает из груди его.
-- Так-то вот, брат, -- говорит пожилой и очень смирный с виду мужичок, встретившись на площади с своим односелянином, -- так-то вот, и Матюшу в некруты сдали!
В загорелых и огрубевших чертах лица его является почти незаметное судорожное движение, в голосе слышится дрожание, и обычный сдержанный вздох вырывается из груди.
-- А добрый парень был, -- продолжает мужичок, -- какова есть на свете муха, и той не обидел, робил непрекословно, да и в некруты непрекословно пошел, даже голосу не дал, как "лоб" сказали!
Воображению моему вдруг представляется этот славный, смирный парень Матюша, не то чтоб веселый, а скорей боязный, трудолюбивый и честный. Я вижу его за сохой, бодрого и сильного, несмотря на капли пота, струящиеся с его загорелого лица; вижу его дома, безропотно исполняющего всякую домашнюю нужду; вижу в церкви божией, стоящего скромно и истово знаменующегося крестным знамением; вижу его поздним вечером, засыпающего сном невинных после тяжкой дневной работы, для него никогда не кончающейся. Вижу я и старика отца, и старуху мать, которые радуются не нарадуются на ненаглядное детище, вижу урну с свернутыми в ней жеребьями, слышу слова: "лоб", "лоб", "лоб"...
-- Что ж, помолиться, что ли, ты пришел, дядя Иван? -- спрашивает у мужичка его собеседник.
-- Да, вот, к угоднику... помиловал бы он его, наш батюшка! -- отвечает старик прерывающимся голосом, -- никакого, то есть, даже изъяну в нем не нашли, в Матюше-то: тело-то, слышь, белое-разбелое, да крепко таково...................
И вся эта толпа пришла сюда с чистым сердцем, храня, во всей ее непорочности, душевную лепту, которую она обещала повергнуть к пречестному и достохвальному образу божьего угодника. Прислушиваясь к ее говору, я сам начинаю сознавать возможность и законность этого неудержимого стремления к душевному подвигу, которое так просто и так естественно объясняется всеми жизненными обстоятельствами, оцепляющими незатейливое существование простого человека. На меня веет неведомою свежестью и благоуханием, когда до слуха моего долетает все то же тоскливое голошение убогих нищих:
Придет мать -- весна-красна,
Лузья, болота разольются,
Древа листами оденутся,
И запоют птицы райски
Архангельскими голосами;
А ты из пустыни вон изыдешь,
Меня, мать прекрасную, покинешь!
-- Нет, не покину! -- готов я воскликнуть вместе с Осафьем-царевичем:
Разгуляюсь я во пустыни, во зеленой во дубраве,
Насмотрюсь во пустыни на различные светы...
Но вот раздался благовест соборного колокола; толпа вдруг заколыхалась и вся, как один человек, встала...
В третьем часу пополудни площадь уже пуста; кой-где перерезывают ее нехитрые экипажи губернских аристократов, спешащих в собор или же в городской сад, чтобы оттуда поглазеть на народный праздник. Народ весь спустился вниз к реке и расселся на бесчисленное множество лодок, готовых к отплытию вслед за великим угодником. На берегу разгуливает праздная толпа горожанок, облаченных в лучшие свои одежды.
-- Марья Матвевна-с, может, вам прохладиться угодно-с? -- говорит канцелярский чиновник Потешкин полной и краснощекой девице, идущей рядом с своею сухощавой родительницей.
Потешкин, рослый мужчина, одет по последней крутогорской моде; шея у него повязана желтым батистовым платком, а в руках блестит стальная тросточка, которою он эффектно помахивает. Эта тросточка стоила ему месячного жалованья, но нельзя не сознаться, что в ней Потешкин приобрел вещь действительно полезную, потому что она в некоторых местах разнимается и дозволяет ему сооружать походный стальной чубук и обжигать им губы сколько душе угодно.
-- Да чем же прохладиться, Петр Никитич? -- томно отвечает Марья Матвеевна, имеющая виды на руку и сердце Потешкина.
-- Прохладительные разные бывают-с, можно этта в питейный сбегать, пива купить...
-- Да вы уж на свой счет, Петр Никитич!
-- Помилуйте-с... на что же-с! Павел Иваныч! Павел Иваныч! побереги, брат, Марью Матвевну, покуда я в питейный за пивом сбегаю!
-- Преуслужливый кавалер Петр Никитич! -- замечает Марья Матвеевна вслед удаляющемуся Потешкину, -- вот вы бы никогда не поступили так благородно, Павел Иваныч.
-- Это он по несообразности своей, -- сонно отвечает Павел Иваныч.
-- И как завсегда чисто одет! даже за канцеляриста признать нельзя.
-- Всё в долг, Марья Матвевна-с...
-- Это нужды нет; образованному человеку завсегда свою чистоплотность наблюдать следует... вот зато и невесту хорошую себе найдет, а вы не найдете!
-- Я скорее найду-с.
-- Вот любопытно! уж не думаете ли вы, что из себя очень занимательны?
-- Нет-с, я найду не по красоте, а по своей основательности-с... Он что найдет? он горечь какую-нибудь найдет! а я желаю за себя купеческую дочь взять, чтоб за ней, по крайности, тысяча серебра числилась...
-- Да! отдадут за вас!
-- За меня отдадут-с... У меня, Марья Матвевна, жалованье небольшое, а я и тут способы изыскиваю... стало быть, всякий купец такому человеку дочь свою, зажмуря глаза, препоручить может... Намеднись иду я по улице, а Сокуриха-купчиха смотрит из окна: "Вот, говорит, солидный какой мужчина идет"... так, стало быть, ценят же!.. А за что? не за вертопрашество-с!
-- Ну, уж нашли кого! Сокуриху! право, смех!
Эта группа сменяется другою, состоящею из четырех женщин и равного числа мужчин.
-- А мы вот так, Петр Федорыч, сделаем, -- говорит один из мужчин, -- мы махнем на перепутье к Пазухину на завод, да там такую лихорадку отзвоним, что на целую неделю после того угорим!
-- Да Пазухин-то нонче не больно разгуляться дает! -- говорит со вздохом Петр Федорыч.
-- Что ты! да как он осмелится! да я ему в лицо наплюю, если он всю нашу прихоть не исполнит...
-- Разве уж для вас, Николай Тимофеич!
-- Еще бы он посмел! -- вступается супруга Николая Тимофеича, повисшая у него на руке, -- у Николая Тимофеича и дела-то его все -- стало быть, какой же он подчиненный будет, коли начальников своих уважать не станет?
-- Я, брат Петр Федорыч, так тебе скажу, -- продолжает Николай Тимофеич, -- что хотя, конечно, я деньгами от Пазухина заимствуюсь, а все-таки, если он меня, окроме того, уважать не станет, так я хоша деньги ему в лицо и не брошу, однако досаду большую ему сделаю.
-- Еще бы! -- отзывается супруга.
-- И если у него за обедом уха подается розная, получше гостям со стерлядями, а похуже -- с окунями, так он мне с окунями не подавай, потому что я сделаю ему невежество...
-- Что говорить, Николай Тимофеич! вы человек нужный, властный!
-- Я у него в доме что хошь делаю! захочу, чтоб фрукт был, будет и фрукт... всякий расход он для меня сделать должен... И стало быть, если я тебя и твоих семейных к Пазухину приглашаю, так ты можешь ехать безо всякой опасности.
-- Хорошо вам на свете жить, Николай Тимофеич, -- говорит со вздохом Петр Федорыч, -- вот и в равных с вами чинах нахожусь, а все счастья нет.
-- Этот, брат, ты сюжет оставь... всякое место своего обладателя знает, а потому оно и дается такому человеку, который свой предмет в существе веществ понимает.
Эту компанию сменяет парочка: муж с женой, тоже в гражданских костюмах.
-- Ты мне вот и платьишка-то порядочного сделать не можешь! -- говорит жена, -- а тоже на гулянье идет!
-- Молчи, сударыня, молчи!
-- Мне на что молчать, мне на то бог язык дал, чтоб говорить... только от тебя и слов, что молчать... а тоже гулять идет!
-- Вот ужо погоди, домой придем!
-- Ишь гуляльщик какой нашелся! жене шляпки третий год купить не может... Ты разве голую меня от родителей брал? чай, тоже всего напасено было.
-- Молчи, говорят тебе, молчи, змея!
-- Что уж ты, видно, бить меня хочешь за то, что я тебе справедливость свою высказываю?.. что ж, бей! По крайности пусть на народе посмотрят, каково мне с тобой житье... со сквалыжником!
Пара проходит мимо.
-- А что наши господа! -- говорит лакей одного из знакомых мне губернских аристократов, -- только разве что понятие одно, что господа... да и понятия-то нет!
-- Господа бывают разные, -- вступается другой лакей, -- один господин своего понятия не имеет, так от слуги понятием заимствуется, другой, напротив того, желает, чтоб от него слуга понятием заимствовался...
-- А вот у наших господ так и своего-то понятия нет, да и от нашего брата заняться ничем не хотят, -- замечает третий лакей.
-- Это, брат, самое худое дело, -- отвечает второй лакей, -- это все равно значит, что в доме большого нет. Примерно, я теперь в доме у буфета состою, а Петров состоит по части комнатного убранства... стало быть, если без понятия жить, он в мою часть, а я в его буду входить, и будем мы, выходит, комнаты два раза подметать, а посуду, значит, немытую оставим.
-- Господин хошь и господин, а тоже зря выговаривать не должен, -- благоразумно замечает первый лакей.
-- Как можно зря выговаривать! это значит человека только запугать и в неспособность его произвести.
-- А слышал, Михей, что с Петрушкой с Порфирьевским намеднись случилось... Барин-от пришел, а он спал на лавке, да вскочивши спросоньев, и ну в холодной печке кочергой мешать...
-- Во сне, должно быть, видел, что печку топит!
-- Что другого и видеть-то! всякий свою ремесленность видит! Вот я нонче три ночи сряду все во сне сапоги чищу...
-- Господа! расступитесь, расступитесь, сделайте ваше одолжение! -- кричит частный пристав Рогуля, протискиваясь брюхом в толпу, -- ты, мужик, чего тут стал? разве здесь твое место?
Последние слова относятся к зазевавшемуся субъекту, обладающему бородой и облаченному в серый кафтан. Толпа раздается, и на сцену является генеральша Дарья Михайловна Голубовицкая. Генеральша очень видная и красивая женщина; в ее поступи и движениях замечается та неробкость, которая легко дается всякой умной женщине, поставленной обстоятельствами выше общего уровня толпы; она очень хорошо одета, что также придает не мало блеску ее прекрасной внешности. Впереди идут два маленьких сына генеральши, но такие миленькие, "такие душки", как говорят в провинции, что их скорее можно признать за хорошие конфетки, нежели за мальчиков. Генеральша окружена целою толпою придворных льстецов, которые наперерыв усиливаются очаровать ее своим остроумием, любезностью и преимущественно щегольским французским языком. В особенности же суетится и хлопочет кругленький и пузатенький помещик Загржембович, который то забежит вперед и полюбуется на детей, то опять поравняется с Дарьей Михайловной, и всегда найдется сказать что-нибудь лестное и приятное. Губернская молодежь без ума от Дарьи Михайловны.
-- Quel charme, que cette femme! [Как очаровательна эта женщина! (франц.)] -- говорит Леонид Сергеич Разбитной, который, по смерти князя Чебылкина, охотно пристроился под крыло генерала Голубовицкого. Дарья Михайловна слышит это и слегка улыбается тою сладкою улыбкой, которая принадлежит только хорошеньким женщинам, вполне уверенным в своем торжестве.
Шествие замыкается самим генералом Голубовицким, одетым в вицмундирный фрак и идущим, как прилично высокому губернскому сановнику, с заложенными за спину руками. Сановитость генерала такова, что никакое самое обстоятельное описание не может противостоять ее лучам; высокий рост и соответствующее телосложение придают ему еще более величия, так что его превосходительству стоит только повернуть головой или подернуть бровью, чтобы тьма подчиненных бросилась вперед, с целью произвести порядок. Генерал также окружен своим штатом, но это не вертопрахи какие-нибудь, а люди солидные, снискавшие общее уважение через доказанную ими преданность или же способность к приобретениям всякого рода. Тут вижу я и знакомца моего Порфирия Петровича, который, по мелкости своего роста, обязывается делать два шага там, где его превосходительству приходится делать только один. Тут же и добродушный глава "приятного семейства", господин Размановский, отпущенный своею супругой погулять и по этому случаю улыбающийся до самого затылка. Тут же и величественный директор народного училища, у которого на лице начертано: "Аз есмь уныние и тошнота, ибо корни учения горьки, и лишь плоды его сладки", и много других еще, высоких и маленьких, пузатеньких и тщедушных, горделивых и смирных.
Генеральша пожелала отдохнуть. Частный пристав Рогуля стремглав бросается вперед и очищает от народа ту часть берегового пространства, которая необходима для того, чтоб открыть взорам высоких посетителей прелестную картину отплытия святых икон. Неизвестно откуда, внезапно являются стулья и кресла для генеральши и ее приближенных. Правда, что в помощь Рогуле вырос из земли отставной подпоручик Живновский, который, из любви к искусству, суетится и распоряжается, как будто ему обещали за труды повышение чином.
Судя по торжественному виду, с которым Живновский проходит мимо генеральши, нельзя не согласиться, что он должен быть совершенно доволен собой. Он как-то изгибает свою голову, потрясает спиной и непременно прикладывает к козырьку руку, когда приближается к ее превосходительству.
-- Мсьё Загржембович, сядьте подле меня, -- говорит Дарья Михайловна, -- я хочу, чтоб вы были сегодня моим чичероне.
Загржембович устремляется к генеральше, садится на стул несколько боком и всю особу свою приветливо наклоняет по направлению к ее превосходительству.
-- Скажите, пожалуйста, в ваших местах таких процессий не бывает? -- спрашивает Дарья Михайловна.
-- Oh, madame, mais comment donc! le peuple est dans l'enfance chez nous comme ailleurs. Mais e'est bien plus beau chez nous! [О, сударыня, как же! народ у нас в таком же младенчестве, как и повсюду. Но у нас это гораздо красивее! (франц.)]
-- Вы несправедливы, мсьё Загржембович, вы личную свою досаду переносите на нас, бедных крутогорских жителей...
-- Только не на вас, Дарья Михайловна!
-- Посмотрите на эту толпу, одетую в пестрые праздничные свои наряды, -- продолжает генеральша, не обратив внимания на комплимент своего усердного поклонника, -- mais je vous demande un peu, si ce n'est pas joli?
-- Oui, c'est joli, mais chez nous c'est imposant, c'est beau! [но скажите, пожалуйста, разве это не красиво? -- Да, это красиво, но у нас это величественно, это прекрасно! (франц.)] разница между этим зрелищем и теми, которые я когда-то имел случай видеть, та же самая, как между женщиной, которую мы называем не более как миленькою, и женщиной... mais vous savez: il у a de ces femmes qui par leurs traits, leur port vous rappellent ces belles statues de I'antiquite!.. [ну, вы знаете: есть такие женщины, которые своими чертами, своей осанкой напоминают вам эти прекрасные античные статуи!.. (франц.)]
Загржембович масляно взирает на Дарью Михайловну, которая, с своей стороны, чувствуя, что комплимент сказан ей, так сказать, в упор, впадает по этому поводу в задумчивость и предается самым сладостнейшим мечтаниям. И она тоже belle Бme incomprise [прекрасная непонятая душа (франц.)], принуждена влачить son existence manquИe [свое жалкое существование (франц.)] в незнаемом Крутогорске, где о хорошенькой женщине говорят с каким-то неблаговидным причмокиваньем, где не могут иметь понятия о тех тонких, эфирных нитях, из которых составлено все существо порядочной женщины... И перед глазами ее наяву проносится сон... сон, которого горячая атмосфера полна зовущих звуков и раздражающих благоуханий. Глаза ее ласково жмурятся, на губах показывается улыбка, и все ее хорошенькое тело лениво опускается на спинку неудобного кресла, которое принесено сюда, благодаря услужливости подпоручика Живновского.
-- А все-таки это мило! -- говорит она медленно, как бы просыпаясь от сна.
-- Русский народ благочестив -- это хорошо! -- ораторствует, в свою очередь, супруг ее, генерал Голубовицкий.
-- Благочестие -- основание всякого знания, ваше превосходительство! -- замечает директор училища.
-- Всякого знания! -- добродушно повторяет Размановский.
-- Это чувство в нем надо поддержать! -- продолжает генерал, гордо озираясь.
Частный пристав Рогуля, который это озирание принимает за желание со стороны его превосходительства, чтоб где-нибудь произведен был порядок, стремглав бросается в сторону и начинает толкаться.
-- Рогуля! не надо! -- величественно замечает генерал.
-- Тут многие есть такие, ваше превосходительство, -- вступается Порфирий Петрович, -- которые целые тысячи верст прошли, чтоб поклониться угоднику!
-- Это весьма любопытно! -- замечает генерал.
-- Губерния эта самая отличная, -- говорит Порфирий Петрович, -- это, можно сказать, непочатой еще край...
-- В одних недрах земли сколько богатств скрывается! -- перебивает директор.
-- Постараемся развить! -- отвечает генерал.
Но вот снова понеслись из всех церквей звуки колоколов; духовная процессия с крестами и хоругвями медленно спускается с горы к реке; народ благоговейно снимает шапки и творит молитву... Через полчаса берег делается по-прежнему пустынным, и только зоркий глаз может различить вдали флотилию, уносящую пеструю толпу богомольцев.
ОТСТАВНОЙ СОЛДАТ ПИМЕНОВ
На завалинке, у самого почтового двора, расположился небольшого роста старичок в военном сюртуке, запыленном и вытертом до крайности. Он снял с плеча мешок, вынул оттуда ломоть черного, зачерствевшего хлеба, достал бумажку, в которую обыкновенно завертывается странниками соль, посолил хлеб и принялся за обед.
-- Куда бредешь, старик? -- спрашиваю я, садясь возле него на завалинку.
-- А вот, сударь, ко святым местам собрался, да будто попристал маленько.
Солдат очень стар, хотя еще бодр; лицо у него румяное, но румянец этот старческий; под кожей видны жилки, в которых кровь кажется как бы запекшеюся; глаза тусклые и слезящиеся; борода, когда-то бритая, давно запущена, волос на голове мало. Пот выступает на всем его лице, потому что время стоит жаркое, и идти пешему, да и притом с ношею на плечах, должно быть, очень тяжело.
-- Давно ты в отставке, старик?
-- А как бы вам, сударь, не солгать? лет с двадцать пять больше будет. Двадцать пять лет в отставке, двадцать пять в службе, да хоть двадцати же пяти на службу пошел... лет-то уж, видно, мне много будет.
-- Тяжело, чай, тебе идти?
-- Тяжелина, ваше благородие, небольшая. Не к браге, а за святым делом иду: как же можно, чтоб тяжело было! Известно, иной раз будто солнышко припечет, другой раз дождичком смочит, однако непереносного нету.
-- Куда же идешь?
-- И сам, сударь, еще не знаю. Желанье такое есть, чтоб до Святой Горы дойти, а там как бог даст.
Старик доел свой ломоть, перекрестился и вздохнул.
-- Вот теперь кваску бы испить хорошо, -- сказал он, -- да отдохнуть бы, пока жара поспадет.
Подали по моему приказанию кружку квасу, к которой старик припал с видимым наслаждением.
-- Ну вот, этак-то ладно будет, -- сказал он, переводя дух, -- спасибо, баринушко, тебе за ласку. Грошиков-то у меня, вишь, мало, а без квасу и идти-то словно неповадно... Спасибо тебе!
-- Как же ты, старина, в такой дальний путь без грошиков собрался?
-- Дойду, сударь: не впервой эти походы делать. Я сызмалетства к странническому делу приверженность имею, даром что солдат. Значит, я со всяким народом спознался, на всякие светы нагляделся... Известно, не без нужи! так ведь душевное дело нужей-то еще больше красится!
-- Они все, ваше высокоблагородие, таким манером доверенность в человеческое добросердечие питают! -- вступился станционный писарь, незаметно приблизившись к нам, -- а что, служба, коли, не ровен час, по дороге лихой человек ограбит? -- прибавил он не без иронии.
-- Где меня грабить! я весь тут как есть! -- отвечал старик и вздохнул.
-- Это именно удивления достойно-с! -- продолжал философствовать писарь, -- сколько их тут через все лето пройдет, и даже никакой опаски не имеют! Примерно, скажем хочь про разбойников-с; разбойник, хошь ты как хошь, все он разбойник есть, разбойничья у него душа... по эвтому самому и называется он кровопийцею... так и разбойника даже не опасаются-с!
-- Что его опасаться? Разбойник денежного человека любит... денежного человека да грешного! а бедного ему не надо... зачем ему бедный!
-- Я так, ваше высокоблагородие, понимаю, что все это больше от ихней глупости, потому как с умом человек, особливо служащий-с, всякого случаю опасаться должон. Идешь этта иной раз до города, так именно издрожишься весь, чтоб кто-нибудь тебя не изобидел... Ну, а они что-с? так разве, убогонькие!
-- Разве ты не в первый раз ходишь? -- спросил я старика, дав время уняться потоку писарского красноречия.
-- Нет, сударь, много уж раз бывал. Был и в Киеве, и у Сергия-Троицы был, ходил и в Соловки не однова... Только вот на Святой Горе на Афонской не бывал, а куда, сказывают, там хорошо! Сказывают, сударь, что такие там есть пустыни безмолвные, что и нехотящему человеку не спастись невозможно, и такие есть старцы-постники и подражатели, что даже самое закоснелое сердце словесами своими мягко яко воск соделывают!.. Кажется, только бы бог привел дойти туда, так и живот-то скончать не жалко!
-- Эх, Антон Пименыч! все это анекдот один, -- сказал писарь, -- известно, странники оттелева приходят, так надо же побаловать языком, будто как за делом ходили...
-- Разве ты знаешь его? -- обратился я к писарю.
-- Как же, ваше высокоблагородие! он тутошний, верст пятнадцать отсель жительствует.
-- Тутошний я, сударь, тутошний. Только ты это не дело, писарек, говоришь про странников-то! Такая ли это материя, чтоб насчет ее, одного баловства ради, речь заводить!
-- Так неужто ж и в сам-деле против кажного их слова уши развесить надобно? Они, ваше высокоблагородие, и невесть чего тут, воротимшись, рассказывают... У нас вот тутотка всё слава богу, ничего-таки не слыхать, а в чужих людях так и реки-то, по-ихнему, молочные, и берега-то кисельные...
-- Кисельные не кисельные, а это точно, что ты, писарек, только по неразумию своему странников обхаиваешь... Странник человек убогой, ему лгать не по што.
-- Чай, и ты, старина, не мало видал на своем веку? -- спросил я.
-- Как, сударь, не видать? видал довольно, видал, как и немощные крепость получали, и недужные исцелялися, видел беса, из жены изгоняемого, слыхал звоны и гулы подземные, видал даже, как озеро внезапно яко вихрем волнуемое соделывается, а ветру нет... Много я, сударь, видал!
-- Порасскажи-ка, пока отдыхаешь.
-- Да что, сударь, вам рассказать! расскажешь, да вы не поверите; значит, в соблазн вас ввести надо... Коли уж писарь зубы скалит, так благородному господину и подавно наша глупость несообразна покажется?
-- Мне, однако ж, было бы приятно послушать тебя.
-- Вот как я вашему благородию скажу, что нет того на свете знамения, которое бы, по божьему произволению, случиться не могло! Только заверить трудно, потому как для этого надобно самому большую простоту в сердце иметь -- тогда всякая вещь сама тебе объявится. Иной человек ума и преизбыточного, а идет, примерно, хоть по полю, и ничего не замечает. Потому как у него в глазах и ширина, и долина, и высь, и травка, и былие -- все обыдень-дело... А иной человек, умом незлокозненным, сердцем бесхитростным действующий, окроме ширины и долины и выси, слышит тут гласы архангельские, красы бестелесные зрит... Потому-то, смекаю я, простому человеку скрижаль божья завсегда против злохитрого внятнее...
-- Нет, не потому это, Пименыч, -- прервал писарь, -- а оттого, что простой человек, окроме как своего невежества, натурального естества ни в жизнь произойти не в силах. Ну, скажи ты сам, какие тут, кажется, гласы слышать? известно, трава зябёт, хошь в поле, хошь в лесу -- везде одно дело!
-- Скажу, примерно, хошь про себя, -- продолжал Пименыч, не отвечая писарю, -- конечно, меня господь разумением выспренним не одарил, потому как я солдат и, стало быть, даров прозорливства взять мне неоткуда, однако истину от неправды и я различить могу... И это именно так, что бывают на свете такие угодные богу праведники и праведницы, которые единым простым своим сердцем непроницаемые тайны проницаемыми соделывают, и в грядущее, яко в зерцало, очами бестелесными прозревают!
Пименов на минуту задумался и потом продолжал:
-- Обзнакомился я, например, в Киеве, у мощей святой Варвары-великомученицы, с некою подобною праведницей, и много мне от нее приятных слов довелось услышать. И такая это была жена благочестивая, что когда богу молилася, так даже пресветлым облаком вся одевалась и премногие радостные слезы ко всевышнему проливала. И рассказывала мне она, как однова стояла она в церкви божией, в великом сокрушении о грехах своих, а очи, будто по недостоинству своему, к земле опустила... и вдруг слышит она вблизи себя некий тихий глас, вещающий: "Мавро! Мавро! почто, раба, стужаешься! воздвигни очи свои горе и возрадуйся!" И что ж, сударь, взглянула она на алтарь, а там над самым-таки престолом сияние, и такое оттуда благоухание исходит, что и рещи трудно... Так она после этого три дня без слов как бы немая пребывала, и в глазах все то самое сияние, так что стерпеть даже невозможно! Так ведь были же тут, сударь, и другие, а никто, опричь ее, видения не удостоился! Вот оно, стало быть, и выходит по-моему, что только простое, незлокозненное сердце святыней растворяться может!
-- Так, похвальбишка какая-нибудь! -- сказал писарь, но Пименыч даже не обратил на него внимания и продолжал:
-- Сказывала она мне также, сударь, какие чудеса от нетленных мощей преподобного Сергия Радонежского соделываются. Пришел, ваше благородие, к раке его человек некий неверующий, и похвалялся тот человек, что хоша он и нарочито не поверует, а ничего якобы от этого ему худого не сделается. И едва, сударь, он это вымолвил, как почувствовал, что у него словно язык отнялся, так что последних-то слов даже и выговорить путем не мог. Ну, тогда и подлинно уведал господин неверующий, что в мощах преподобного великая сила сокрыта, и не токмо поверовал, но и в чернецы тут же постригся, а язык стал у него по-прежнему...
-- Из простых была, что ли, эта Мавра?
-- Была она, сударь, из преславного града Тюменя, из мещан; родителей имела сильных и именитых, которые суету мирскую превыше душевного подвига возлюбили. Она же по стопам родителей не пошла, и столь много даже сыздетска к богу прилепилась, что ни о чем больше не помышляла, разве о том, чтобы младые свои страсти сокрушить и любить единого господа и спаса своего. Таким, сударь, родом дожила она до такого времени, когда в совершенный возраст пришла, и начали родители добывать ей мужа. Она же об этом ни разу не только не помыслила, но даже со слезами к стопам родительским припадала, да не изгубят души ее занапрасно. Однако они младого ее разуму не послушали и выдали ее замуж почти полмертвую... И что ж, сударь? не прошло полгода, как муж у ней в душегубстве изобличен был и в работы сослан, а она осталась одинокою в мире сиротой... вот как бог-то противляющихся ему родителей наказывает! И с тех с самых пор дала она обет в чистоте телесной жизнь провождать и дотоле странничать, доколе тело ее грешное подвиг душевный переможет. И столь смиренна была эта жена, что даже и мужа своего погубление к своим грехам относила и никогда не мыслила на родителей возроптать!
Пименов снова погрузился в думу, между тем как писарь потихоньку посмеивался и иронически мне подмигивал.
-- А расскажи-ка, Пименыч, барину, как ты в пустынях странствовал, -- сказал он.
-- Бывал, сударь, я и в пустыне. Пустыня дело большое, и не всякий его вместить может. Доложу вам так: овый идет в пустыню, чтоб плоть свою соблюсти: работать ему не желается, подати платить неохота -- он и бежит в пустыню; овый идет в пустыню по злокозненному своему разуму, чтобы ему, примерно, не богу молиться, а кляузничать, да стадо Христово в соблазн вводить. А есть и такие, которые истинно от страстей мирских в пустыню бегут и ни о чем больше не думают, как бы душу свою спасти. Это именно старцы разумные и великие постники! Дотоле плоть в себе умерщвляют, что она у них прозрачна и суха соделывается, так что видом только плоть, а существом и похожего на нее нет...
-- И ты знавал лично таких?
-- Знавал, ваше благородие, -- отвечал Пименов решительным голосом, -- сам своими глазами видал. Лет с пяток тому будет, спознался я с одним таким старцем -- Вассианом прозывался. Жил он в пустыне более сорока лет, жил в строгости и тесноте великой, и столько полюбилось ему ее безмолвие, что без слез даже говорить об ней не мог. Об одном только и тосковала душа его, чтобы те претесные евангельские врата сыскать, чрез которые могла бы прейти от мрачныя и прегорькия темницы в присносущий и неумирающий свет райского жития... Сказывал он мне житие свое прежнее, и именно удивления это достойно, как батюшка-то небесный тварь свою безотменно к тайному концу приводит и самый даже нечистый сосуд очищает. Был, сударь, он до того времени и татем и разбойником, не мало невинных душ изгубил и крови невинной пролиял, однако, когда посетила его благость господня, такая ли вдруг напала на него тоска, что даже помышлял он руки на себя наложить. Начал он скучать и томиться и не знал, где для себя место найти, потому что все душегубства его прежние непрестанно пред глазами его объявлялись и всюду за ним преследовали. И указал ему бог путь в пустыню... Пришел он в лес дремучий, темный, неисходимый, пал на землю и возрыдал многими слезами: "О прекрасная мати-пустыня! прими мя грешного, прелестью плотскою яко проказою пораженного! О мати-пустыня! прими мя кающегося и сокрушенного, прими, да не изыду из тебя вовек и не до конца погибну!" И что ж, сударь! едва лишь кончил он молитву, как почувствовал, что страсти его внезапно укротились, и был он лют яко лев, а сделался незлобив и кроток яко агнец.
-- Да, может быть, он просто от наказания скрывался? -- спросил я.
-- Об этом, сударь, сказать я вам ничего не могу. Известно, что наказание разбойнику следует; однако, если человек сам свое прежнее непотребство восчувствовал, так навряд и палач его столь наказать может, сколько он сам себя изнурит и накажет. Наказание, ваше благородие, не спасает, а собственная своя воля спасает... Не на радость и не на раскошество старец Вассиан в пустыню вселился, а на скорбь и на нужу; стало быть, не бежал он от наказания, а сам же его искал. И на каторге хлеб добрый и воду непорченную дают, а в пустыне он корнями да травами питался, а воду пил гнилую и ржавую. Была у него в самой лесной чаще сложена келья малая, так истинно человеку в ней жить невозможно, а он жил! Стоять в рост нельзя, а можно
только лежать или на коленках стоять... точно как гробу подобно! Окошечко вырублено малое, да и то без стекла, печки нет. Как только жил!
-- Да ведь одежду-то нужно было ему как-нибудь доставать? -- сказал я.
-- А какая у него одежа? пониток черный да вериги железные -- вот и одежа вся. Известно, не без того, чтоб люди об нем не знали; тоже прихаживали другие и милостыню старцу творили: кто хлебца принесет, кто холстеца, только мало он принимал, разве по великой уж нужде. Да и тут, сударь, много раз при мне скорбел, что по немощи своей, не может совершенно от мира укрыться и полным сердцем всего себя богу посвятить!
-- Каким же образом ты-то дошел до него?
-- Кто много ищет, ваше благородие, тот безотменно находит. Сам я, по неразумию своему, хотя не силен духовного подвига преодолеть, однако к подражателям Христовым великое почитание имею. Стало быть, того поспрошаю, у другого наведаюсь -- ну, и дойду как-нибудь до настоящего. Так-то было и тут. Пришел я к чему, по милости добрых людей, в летнее время, потому что зимой и жилья поблизности нет, а с старцем поселиться тоже невозможно. Не малое-таки время и искал-то я его, потому что лес большой и заплутанный, а тропок никаких нету; только вот проходимши довольно, вдруг вижу: сидит около кучи валежника старец, видом чуден и сединами благолепными украшен; сидит, сударь, и лопотиночку ветхую чинит. А это он самый и был, Вассиан, а куча-то валежника для того, вишь, им сюда снесена, чтоб от непогод укрыть его келью тесную... И много я в ту пору от него слов великих услышал, и много дивился его житию, что он, как птица небесная, беззаботен живет и об одном только господе и спасе радуется. "Как же ты зимой тут живешь, старче?" -- вопросил я его. "А отчего мне-ка не жить, -- отвечал он, -- снегом келейку мою занесет, вот и тепло мне, живу без нужды, имя Христово прославляючи". И чудо, сударь, сказывал он мне: даже звери дикие и те от сладкого его гласа кротки пребывали! Пришла, сударь, по один день зимой к его келье волчица и хотела старца благочестивого съести, а он только поглядел на нее да сказал: "Почто, зверь лютый, съести мя хощеши?" -- и подал ей хлеба, и стала, сударь, волчица лютая яко ягня кротка и пошла от старца вспять!
-- Ведь чего не выдумают! -- прервал писарь. -- Ну, статочное ли дело, чтобы волчица человека не задрала! Ведь она, Пименыч, только аппетит свой знает, а разуму в ней настоящего нет!
-- Стало быть, есть, коли вот простого старцева слова послушалась!.. И еще рассказывал мне, сударь, старец Вассиан, какие в пустынях подвижникам Христовым искушения великие бывают. Стоит, сударь, он однажды в келье на молитве, и многие слезы о прегрешениях своих пред господом проливает. И вдруг является пред ним юница добрая, одежды никакия не имуща, а телом яко снег сверкающа; является пред ним, бедрами потрясает, главою кивает, очами помавает. И взговорила ему та юница: "Старче убогий, Вассиане! прислал меня к тебе князь мой, да услажду тя от красоты моея!" Только он, сударь, плюнул и отвернулся, а знамения крестного, по неосторожности, не сотворил. И взяла его та юница за руки, и взглянула ему в самые очи, и ощутил Вассиан, яко некий огнь в сердце его горит, и увидел пламень злой из очей ее исходящ, и зрел уже себя вверженным в пропасть огненную... Но тут десница божия поддержала и вразумила его: освободил он кое-как руки от когтей диавольских и сотворил крестное знамение... И стало место это опять пусто, только слышал он, как некто вблизи его сказал: "Подождем мало, теперь еще не время"... И долго-таки не отставал от него враг человеческий; и на другой, и на третий день все эта юница являлася и думала его прелестьми своими сомустить, только он догадался да крест на нее и надел... так поверите ли, сударь? вместо юницы-то очутился у него в руках змей преогромный, который, пошипев мало, и пополз из келий вон... Так вот какие соблазны и в пустынном житии подвижников великих преследуют!
Кончив этот рассказ, Пименыч пристально посмотрел мне в лицо, как будто хотел подметить в нем признаки того глумления, которое он считал непременною принадлежностию "благородного" господина. Но этого глумления не было. Пускай станционный писарь, пункт за пунктом, доказывает несбыточность показаний Пименова, но я с своей стороны не имею силы опровергнуть их. Передо мною ярко и осязательно выступает всемогущее действо веры, и, под обаятельным влиянием этой юной и свежей народной силы, внятною делается для меня скрижаль божия...
Вероятно, Пименыч замечает это, потому что глядит на меня как-то особенно ласково и весело.
-- Так как же тут не поверуешь, сударь! -- говорит он, обращаясь уже исключительно ко мне, -- конечно, живем мы вот здесь в углу, словно в языческой стороне, ни про чудеса, ни про знамения не слышим, ну и бога-то ровно забудем. А придешь, например, хошь в Москву, а там и камни-то словно говорят! пойдут это сказы да рассказы: там, послышишь, целение чудесное совершилось; там будто над неверующим знамение свое бог показал: ну и восчувствуешь, и растопится в тебе сердце, мягче воску сделается!..
В это время подошла пожилая женщина тоже в странническом одеянии и остановилась около нас. Пименов узнал ее.
-- А что, Пахомовна, -- спросил он, -- видно, тоже богу помолиться собралась?
-- Собралась, голубчик, да чтой-то уж и не знаю, дойти ли: ништо разломило всеё!
-- А посиди с нами, касатка; барин добрый, кваску велит дать... Вот, сударь, и Пахомовна, как не я же, остатнюю жизнь в странничестве препровождает, -- обратился Пименов ко мне, -- Да и других много таких же найдется...
Пахомовна набожно перекрестилась.
-- Нашего брата, странника, на святой Руси много, -- продолжал Пименов, -- в иную обитель придешь, так даже сердце не нарадуется, сколь тесно бывает от множества странников и верующих. Теперь вот далеко ли я от дому отшел, а и тут попутчицу себе встретил, а там: что ближе к святому месту подходить станем, то больше народу прибывать будет; со всех, сударь, дорог всё новые странники прибавляются, и придешь уж не один, а во множестве... так, что ли, Пахомовна?
-- Так, голубчик, на народе и богу молиться веселее.
-- Лето-то все таким родом проходишь, а зиму прозимуешь у мощей святых или у образа чудотворного, а потом опять лето пространствуешь, да уж на другую зиму домой воротишься... И чего-чего тут не наслышишься, и каких божиих чудес не насмотришься! Довольно того, например, что в Соловках об летнюю пору даже и ночи совсем нет! И такова, сударь, благость господня, что только поначалу и чувствуешь, будто ноги у тебя устают, а потом даже и усталости никакой нет, -- все бы шел да шел. Идешь этта временем жаркиим, по лесочкам прохладныим, пташка божья тебе песенку поет, ветерочки мягкие главу остужают, листочки звуками тихими в ушах шелестят... и столько становится для тебя радостно и незаботно, что даже плакать можно!.. Идем, что ли, Пахомовна!
Пименов встал, снял шапку, поклонился мне и писарю, потом несколько раз перекрестился и заковылял по дороге рядом с Пахомовной.
ПАХОМОВНА
Собралася Федосьюшка свет-Пахомовна в путь во дороженьку, угодникам божиим помолиться, святым преславным местам поклониться. Оболокалася Пахомовна в ризы смиренные страннические, препоясывалась она нуждой да терпеньицем, обувалася она в чёботы строгие. "Уж вы, чёботы мои, чёботы строгие, сослужите мне службу верную, доведите меня до святых угодников, до святых угодников, их райских обителей! Ты прости, государь батюшка, ты прости, государыня матушка! Помолитесь вы за мою душеньку грешную, чтобы та душа грешная кресту потрудилася, потрудившись в светлые обители вселилася!"
Идет Пахомовна путем-дороженькой первый день, идет она и другой день; на третий день нет у Пахомовны ни хлебца, ни грошика, что взяла с собой, всё поистеривала на бедныих, на нищиих, на убогиих. Идет Пахомовна, закручинилась: "Как-то я, горькая сирота, до святого града доплетусь! поести-испити у меня нечего, милостыню сотворить -- не из чего, про путь, про дороженьку поспрошать -- не у кого!"
И видит Пахомовна, впереде у нее стоит дубравушка; стоит свет-дубравушка веселая, а муравушка в ней зеленая. Садится Пахомовна середь той дубравушки, садится и горько плачется: "Ты взмилуйся надо мной, государыня дубрава зеленая! приюти ты мое недостоинство, ты насыть меня алчную, ты напой меня жадную!" Вдруг предстал перед ней медведь-лютый зверь; задрожала-испужалась Пахомовна того зверя лютого, звериного его образа невиданного; взговорила она ему: "Ты помилуй меня, лютый зверь, ты не дай мне помереть смертью жестокою, не вкусимши святого причастия, в прегрешениях не вспокаявшись!"
И держал ей медведь такую речь: "Ты на что, божья раба, испужалася! мне не надобно тело твое худое, постом истощенное, трудом изможденное! я люблю ести телеса грешные, вынеженные, что к церкви божьей не хаживали, середы-пятницы не имывали, великого говенья не гавливали, постом не постилися, трудом не трудилися! А тебе принес я, странница, медвяный сот, твою нужу великую видючи, о слезах твоих сокрушаючись!"
И дивилася много Пахомовна той божией милости, благому божиему произволению!
Идет Пахомовна путем-дороженькой, призастигла ее ночка темная. Не видит Федосьюшка жила человеческого, не слышит человечьего голосу; кругом шумят леса неисходные, приутихли на древах птицы воздуственные, приумеркли в небесах звезды ясные; собираются в них тучи грозные, тучи грозные собираются, огнем-полымем рассекаются... Раздалися гулы-громы подземные, стонет от них матушка сыра-земля, стонет, дрожит, хочет восколыбнуться. Растужилася Пахомовна от великого страха и ужаса: "Не страши мя, государь небесный царь, превеликиими ужасами; ты не дай мне померети безо времени, не дай скончать живота без святого причастия, без святого причастия, без слезного покаяния!"
По молитве ее в лесу место очищается; стоят перед нею хоромы высокие, высоки рубленые, тесом крытые; в тех хоромах идет всенощное пение; возглашают попы-диаконы славу божию, поют они гласы архангельские, архангельские песни херувимские, величают Христа царя небесного, со отцем и святым духом спокланяема и сославима. А на самом пороге у хором хозяин стоит, хозяин муж честен и праведен, сединами благолепными изукрашенный. Он убогую старицу зазывает, свет-Пахомовну ночевать унимает, за белые руки ее принимает. "Ты, хозяюшка молодая, и вы, детки малые! упокойте вы старицу божию, старицу божию, странницу убогую!" -- "Отдохни ты здесь, Федосьюшка! услади, свет-Пахомовна, душу твою гласами архангельскиими, утоли твой глад от ества небесного!" И брала свет-Пахомовну за руки хозяйка младая, в большое место ее сажала, нозе ее умывала, питьями медвяными, ествами сладкими потчевала. Наслушалась Пахомовна архангельских голосов, насладилась честныих песней херувимскиих, а от сладкого ества и медвяного пойла отказалася.
И взговорила она ко хозяину, прощаючись: "Кто же ты еси, человече, что меня гладную воскормил, жаждущу воспоил, в дебрях блуждающу приютил? Как помянуть мне на молитве святое твое имя богоданное?" Отвещал ей старец праведный: "Ты почто хощеши, раба, уведати имя мое? честно имя мое, да и грозно вельми; не вместити его твоему убожеству; гладну я тебя воскормил, жаждущу воспоил, в дебрех, в вертепах тебя обрел -- иди же ты, божья раба, с миром, кресту потрудися! уготовано тебе царство небесное, со ангели со архангели, с Асаком-Обрамом-Иаковом -- уготована пища райская, одежда вовеки неизносимая!"
И дивилася много Пахомовна той божией милости, благому божиему произволению!
Идет Пахомовна путем-дороженькой; идет-идет, кручинится: "Как же я, горькая сирота, во святой град приду! масла искупити мне не на что, свещу поставить угоднику не из чего, милостыню сотворить нищему и убогому -- нечем!" И предстал перед ней змей-скорпий, всех змиев естеством злейший, от бога за погубление человеческое проклятый. И рек ей тот змей: "Не страшись мя, старица убогая, приполз я к тебе не своим хотением, а невольным повелением, притупилося у меня жало лютое, острое!" -- "Что же хощешь ты от меня, государь лютый змей, поскудна, злющая ты гадина?" -- "А хощу я показати тебе мою сокровищницу; стерегу я ту сокровищницу денно и нощно многие тысящи лет, ни единому человечьему глазу невидимо, ни единому человечьему уху неслышимо! Много тамо смарагдов, яхонтов самоцветных; злата, сребра тамо мешки полные, услаждай свою душеньку досыта, насыпай свою котомочку странническую!" И привел ее змей к пещерам глубоким, к земныим рассединам; отвалил он от пещер тех камень зело велик, отворил сокровищницу тайную. Показалося оттудова пламя огненное; возопили бесы льстивыми голосами, восплакали лукавыми слезами, не хотели (якобы) Пахомовну до злата допущать. А Пахомовна-то перекрестилася, бесовскую силу крестом победила; первый-то мешок взяла -- в пропасть кинула огненную, а другой-то мешок взяла -- по ветру злато развеяла; насчитала она мешков число зверино шестьсот шестьдесят шесть, и все-то раскидала, развеяла.
И взговорила она тут змею-скорпию: "Захотел ты, слуга антихристов, великиим богачеством мое сердце уязвить; притворился ты, сосуд диавольский, агнцем кротким, послушливым? Так не будет же по-твоему, гадина пресмыкающа: со мною сила крестная, со мною святых угодников пречестное воинство!" И, сказавши такую речь, загнала она поганого змея в земную расседину и наваливала камнем великиим. Застонали бесы стонами велиими, заскрежетали они скрежетами зубовными и взмолилися тако убогой страннице Пахомовне: "Отпусти ты нас, Федосьюшка, на вольной свет, на вольной свет, в прелестный мир! что-то мы скажем нашему батюшке, нашему батюшке самому сатане!"
А Пахомовна идет путем-дороженькой, клюкою своею помахивает, погублению бесовскому посмевается да святым крестом ограждается. И вдруг слышит она, словно в котомочке у нее стук-стук, а котомочка (знает она) была допреж того пустехонька; дивится Пахомовна, котомку отвязывает, и вдруг обретает тамо золотую копеечку. "Ты отколе, золотая копеечка, проявилася? не из диавольских ли рук сатанинскиих?" -- "Не из диавольскиих я из рук сатанинскиих, появилася я Христовым повелением, на благие дела на добрые, на масло на лампадное, на свещу воску ярого, на милостыню нищему-убогому!"
И дивилася много Пахомовна той божьей милости, благому божиему произволению!
Распыхался же и сатана от погрому Пахомовнина; распалился он гневом на странницу худую, бессильную, что эдакая ли странница бессильна, а над хитростью его геенскою посмеялася, верных слуг его, сатаны, в земную расседину запрятала, а казну его беззаконную всю развеяла. Воссел он на престоле на огненном, на главу воздел венец змииный и позвал перед себя слуг своих верныих: "Гой бы, слуги мои, слуги-беси проклятии! сослужите вы мне службу верную; изобидела меня странница худая Пахомовна, посмеялася над моим сатанинскиим величеством!"
И по тому его сатанинскому повелению разлеталися бесы послушные; разлетались они по вольному свету, прелестному миру, умышляли, како уловить им свет-Пахомовну.
Пришла она на ту пору на распутие: лежат перед нею три дороженьки, и не знает старица, по которой идти.
Повстречался с ней тут младый юнош прекрасный (а и был он тот самый злохитрый слуга сатанин), он снимал перед ней свою шапочку, ниже пояса старице кланялся, ласковые речи разговаривал: "Уж ты, матушка ли моя свет-Пахомовна истомилася ты во чужой во сторонушке, истомилася-заблудилася, настоящую праву дороженьку позапамятовала!" Взмолилася ему тут Пахомовна: "Ты младый юнош прекрасный! укажи мне правую дороженьку, что ведет к преславным градам, где пророки пророчествовали, где святии мученики кровь честную пролили, где святители православные прехвальное житие свое провождали". Повел ее млад юнош по середней дороженьке, по той торной дороженьке, где ходят люди грешные. Расстилается перед ней дороженька широкая, грешными стопами убитая, любодеевыми одеждами выметенная. Усумнилася странница свет-Пахомовна - "Разгони ты, младый юнош, мое неразумьице, отчего наша дорога торна-широка, а в Писании про райский путь так не сказано?" Отвещал ей тогда добрый молодец: "Пожди мало, Пахомовна! впереди еще будет узок путь, будет узок путь и ужасен путь!"
И привел он ее к лесу темному; в тыим лесе одни только древа-осины проклятые: листами дрожжат, на весь мир злобствуют. Догадалася тогда Пахомовна, что пришла она в место недоброе; изымал ее сам злой дух сатана со своими проклятыми деймонами; помутился у нее свет в очах, и дыханьице в груди замерло, подломилися ноги скорые, опустилися руки белые. Вокруг лежат болота смрадные, поднимаются кверху от них туманы зловонные, застилаючи солнце праведное, насылаючи безо времени ночь ужасную. Хочет она крест сотворить -- руки отнялись; хочет молитву сказать -- язык онемел, хочет прочь бежать -- ноги не слушаются.
Расступилася вдруг под нею мать сыра-земля, и разверзлася вся преисподняя огненная. Сидит сам сатана, исконный враг человеческий, сидит он на змее трехглавныем огненныем; проворные бесы кругом его грешников мучают, над телесами их беззаконными тешатся, пилят у них руки-ноги пилами острыими, бьют их в уста камнями горячими, тянут из них жилы щипцами раскаленными, велят лизать языком сковороды огненные, дерут им спины гребенками железными. А по воздуху летают огнекрылатые змии-аспиды, образ девичий имущи, хобот скорпиев, а по полу скачут жабы проклятые, мечутся крысы злые огненные, ползут черви ядовитые... Вопиют грешники и грешницы ко господу: "Господи, избавь нас от реки огненной, от реки огненной, муки веко-вечныя, от скрежета ужасного зубовного и от тьмы несветимыя! господи! не вели палить наших лиц огню-жупелу, остуди наши гортани росою небесною! И вы, великие божий угодники! пророцы, апостоли, страстотерпцы Христовы мученики и святии святители! не можно ли вам за нас помолитися!"
Чует Пахомовна: волокут и ее злые деймоны ко престолу сатанинскому огненному. Распалилася она вдруг ревностью многою, благочестием великиим, восплакала слезами горькими, взговорила словесами умиленными: "Господи спасе Христос истинный, почто оставил ты рабу свою! почто предал меня на погубление бесу лукавому!"
От того ее гласа молитвенного отшатнулися злые деймоны, отшатнулись, яко вихрем гонимые, и низвергнулись в преисподнюю. И потухло вдруг пламя геенское, затворилася пропасть огненная, опустилися туманы зловонные, и засияло вновь солнце праведное!
И видит Пахомовна: перед нею святая обитель стоит, обитель стоит тихая, мужьми праведными возвеличенная, посреде ее златые главы на храмах светятся, и в тех храмах идет служба вечная, неустанная. Поют тамо гласами архангельскиими песни херувимские, честное и великолепное имя Христово прославляючи со отцем и святым духом и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
ХРЕПТЮГИН И ЕГО СЕМЕЙСТВО
На постоялый двор, стоящий в самом центре огромного села, въезжают четыре тройки. Первая, заложенная в тарантас чудовищных размеров, везет самих хозяев; остальные три заложены в простые кибитки, из которых в одной помещаются два господина в гражданском платье; в другой приказчик Петр Парамоныч, тучный малый, в замасленном длиннополом сюртуке, и горничная девушка; в третьей повар с кухнею.
-- Архип! а Архип! смотри-кось, брат, какую машинищу Иван Онуфрич изладил! -- кричит Петр Парамоныч, выскочив из кибитки и указывая на четвероместный тарантас, поворачивающий в глубине двора.
Хозяин, он же и Архип, мужик, раздувшийся от чрезмерного употребления чая, с румяным лицом, украшенным окладистою бородкой и парою маленьких и веселых глаз, в одной александрийской рубашке, подпоясанной ниже пупка, подходит к тарантасу Ивана Онуфрича, окидывает взглядом кузов, потом нагибается и ощупывает оси и колеса, потряхивает легонько весь тарантас и говорит:
-- Барская штука! в Москве, что ли, ладили?
-- Где в Москве! своими мастерами делали! тут одного железа пятнадцать поди пудов будет!
-- Да; ладная штука!.. На богомолье, что ли, господа собрались?
-- Да, на богомолье! то есть, больше, как бы сказать, для блезиру прогуляться желательно.
-- Так-с... а нечего нонче сказать: на богомолье много господ ездит, а черного народу да баб так и ужасти сколько!
В это время проходит по двору женщина, засучивши сарафан и неся в одной руке ведро воды, а другую, вероятно для равновесия, держа наотмашь.
-- Феклинья! брось ведро, да подь сюда! посмотри-кось, какую корету Иван Онуфрич изладил! -- кричит ей тот же Петр Парамоныч.
Феклинья не смеет ослушаться; она ставит ведро наземь, но, подошедши, только покачивает головой и шепчет: "Ишь ты!"
-- Да ты что ж ничего не говоришь! ты посмотри, каковы оси-то!.. глупая!
-- Где ей, батюшка, Петр Парамоныч, в этаком деле смыслить! -- вступается Архип и, обращаясь к Феклинье, прибавляет: -- Ты смотри, самовар скорее ставь для гостей дорогих!
-- А я было воду-то для странниц несла: больно уж испить им хочется! кваску бы им дать, да ты не велел...
-- До них ли теперь! видишь, господа купцы наехали! обождут, не велики барыни!
-- А что, Демьяныч, видно, на квас-то скупенек, брат, стал? -- говорит ямщик, откладывая коренную лошадь, -- разбогател, знать, так и прижиматься стал!.. Ну-ко, толстобрюхий, полезай к хозявам да скажи, что ямщикам, мол, на чай надо! -- прибавляет он, обращаясь к Петру Парамонычу.
Между тем предмет этих разговоров, Иван Онуфрич Хрептюгин расположился уж в светелке с своим семейством, состоящим из супруги, дочери и сына, и с двумя товарищами, сопутствующими ему в особом экипаже. Хрептюгин, купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин, зевает и потягивается. Дорога утомила и расслабила его нежное тело; в особенности же губительно подействовала она на ноги почетного гражданина, несмотря на то что ноги эти, по причине необыкновенной тонкости кожи, обуты в бархатные сапоги. Причина этого губительного действия заключается в том, что, сооружая себе "корету", Иван Онуфрич не столько думал об удобствах, сколько об том, чтоб железа и дубу было вволю, и чтоб вышла корета "православным аханье, немцам смерть и сухота". Хрептюгин -- мужчина лет сорока пяти, из себя видный и высокий, одетый по-немецкому и не дозволяющий себе ни малейшего волосяного украшения на лице. Походку имеет он твердую и значительную, хотя, по старой привычке, ходит, большею частию, заложивши руки назад. Многие еще помнят, как Хрептюгин был сидельцем в питейном доме и как он в то время рапортовал питейному ревизору, именно заложивши назади руки, но стоя не перпендикулярно, как теперь, а потолику наклоненно, поколику дозволяли это законы тяготения; от какового частого стояния, должно полагать, и осталась у него привычка закладывать назади руки. Многие помнят также, как Иван Онуфрич в ту пору поворовывал и как питейный ревизор его за волосяное царство таскивал; помнят, как он постепенно, тихим манером идя, снял сначала один уезд, потом два, потом вдруг и целую губернию; как самая кожа на его лице из жесткой постепенно превращалась в мягкую, а из загорелой в белую... Но, разумеется, все эти воспоминания передаются только шепотом, и присутствие Хрептюгина вмиг заставляет умолкнуть злые языки.
Супруга его, Анна Тимофевна, дама весьма сановитая, но ограниченная, составляет непрестанно болящую рану Хрептюгина, потому что сколько он ни старался ее обшлифовать, но она еще и до сих пор, тайком от мужа, объедается квашеною капустой и опивается бражкой. Нередко также обмолвливается она неприятными словами, вроде "взопреть", "упаточиться", "тошнехонько" и т п., и если это бывает при Иване Онуфриче, то он мечет на нее столь суровые взгляды, что бедная мгновенно утрачивает всю свою сановитость, теряется и делается способною учинить еще более непростительную в образованном обществе обмолвку.
Зато Аксинья Ивановна (о! сколь много негодовал на себя Иван Онуфрич за то, что произвел это дитя еще в те дни, когда находился в "подлом" состоянии, иначе нарек ли бы он ее столь неблагозвучным именем!) представляет из себя тип тонкой и образованной девицы. Она столько во всех науках усовершенствована, что даже и papa своему не может спустить, когда он, вместо "труфель", выговаривает "трухель", а о maman нечего и говорить: она считает ее решительно неспособною иметь никакого возвышенного чувства. Иван Онуфрич, имея в виду такую ее образованность, а также и то, что из себя она не сухопара, непременно надеется выдать ее замуж за генерала. "Хоть бы с улицы, хоть бы махонького какого-нибудь генералика!" -- частенько думал он про себя, расхаживая взад и вперед по комнате, с заложенными за спину руками. "Ах, что это вы, папа, всё за спиной руки держите, точно "чего изволите?" говорите!" -- скажет Аксинья Ивановна, прерывая его попечительные размышления. "Слушаю-с, ваше превосходительство!" -- ответит Иван Онуфрич, погладит Аксюту по головке и станет держать руки по швам.
Совершенную противоположность с своей сестрицей составляет рожденный уже по приобретении Иваном Онуфричем благ цивилизации осьмилетний сын его, Demetrius Иваныч. Хотя он одет в бархатную курточку, по так как "от свиньи родятся не бобренки, а все поросенки", то образ мыслей и наклонностей его отстоит далече от благоуханной сферы, в которой находятся его родители. Сыздетска головку его обуревают разные экономические операции, и хотя не бывает ни в чем ему отказа, но такова уже младенческая его жадность, что, даже насытившись до болезни, все о том только и мнит, как бы с отческого стола стащить и под комод или под подушку на будущие времена схоронить. К изучению французского языка и хороших манер не имеет он ни малейшего пристрастия, а любит больше смотреть, как деньги считают, или же вот заберется к подвальному и смотрит, как зеленое вино по штофикам разливают, тряпочкой затыкают, да смолкой припечатывают. "Брысь, слякоть!" -- скажет ему подвальный Потапыч, а он ничего, даже не обидится, только сядет в уголок, да и наслаждается оттуда полегоньку "Лютая бестия из тебя выдет, Митька!" -- скажет Потапыч и примется снова за свое дело. В настоящее время Митька беспрестанно вынимает из карманов своих шаровар что-нибудь съедобное и меланхолически пожевывает.
Один из спутников Хрептюгина -- армянин Халатов. Он принадлежит к числу тех бель-омов, которых некоторые остроумцы называют отвратительно-красивыми мужчинами. Говорит он по-русски хорошо, но уже по той отчетливости, с которою выговаривается у него каждое слово, и по той деятельной роли, которую играют при произношении зубы и скулы, нельзя ошибиться насчет происхождения этого героя. Впрочем, он нрава малообщительного, больше молчит, и во время всей последующей сцены исключительно занимается всякого рода жеваньем, в рекреационное же время вздыхает и пускает страстные взоры в ту сторону, где находится Аксинья Ивановна, на сердце которой он имеет серьезные виды.
Другой спутник -- птица небольшая, да и не малая, той самой палаты столоначальник, которая и Хрептюгина, и Халатова, и всех армян, еллинов и иудеев воспитывает, "да негладны и беспечальны пребывают". Прозывается он Прохор Семенов Боченков, видом кляузен, жидок и зазорен, непрестанно чешет себе коленки, душу же хранит во всей чернильной непорочности, всегда готовую на послугу или на пакость, смотря по силе-возможности. Его тоже разломило в дороге, потому что он ходит по комнате аки ветром колыхаемый, что возбуждает немалую, хотя и подобострастную веселость в Хрептюгине. Везет его Иван Онуфрич на свой счет.
-- Видно, богу помолиться собрались, Иван Онуфрич? -- спрашивает вошедший хозяин.
-- Да, надо молиться. Он нас милует, и мы ему молиться должны, -- отвечает Иван Онуфрич отрывисто.
-- Из сидельцев... -- начинает Анна Тимофеевна, но Иван Онуфрич бросает на нее смертоносный взгляд, и она робеет.
-- Вы вечно какую-нибудь глупость хотите сказать, maman, -- замечает Аксинья Ивановна.
-- Что ж за глупость! Известно, папенька из сидельцев вышли, Аксинья Ивановна! -- вступается Боченков и, обращаясь к госпоже Хрептюгиной, прибавляет: -- Это вы правильно, Анна Тимофевна, сказали: Ивану Онуфричу денно и нощно бога молить следует за то, что он его, царь небесный, в большие люди произвел. Кабы не бог, так где бы вам родословной-то теперь своей искать? В червивом царстве, в мушином государстве? А теперь вот Иван Онуфрич, поди-кось, от римских цезарей, чай, себя по женской линии производит!
Хрептюгин от души ненавидит Боченкова, но боится его, и потому только сквозь зубы цедит: -- Хоть бы при мужике-то не говорил!
-- А корету важную изладили, Иван Онуфрич! -- начинает опять Демьяныч, с природной своей сметливостью догадавшися, что положение Хрептюгина неловко.
-- Карета не дурна -- так себе! -- отвечает Хрептюгин, -- что ж, не в телегах же ездить!
-- Ай, какие ужасы! -- пищит Аксинья Ивановна.
-- Как же можно в телегах! -- рассуждает Демьяныч, -- вам поди и в корете-то тяжко... Намеднись Семен Николаич проезжал, тоже у меня стоял, так говорит: "Я, говорит, Архипушко, дворец на колеса поставлю, да так и буду проклажаться!"
-- Ну, уж ты там как хочешь, Иван Онуфрич, -- прерывает Боченков, почесывая поясницу, -- а я до следующей станции на твое место в карету сяду, а ты ступай в кибитку. Потому что ты как там ни ломайся, а у меня все-таки кости дворянские, а у тебя холопские.
От этой речи у Ивана Онуфрича спина холодеет, и он спотыкается на ровном месте.
-- В Москве, что ли, корету-то делать изволили? -- выручает опять Демьяныч.
-- Своими мастеровыми! -- отрывисто отвечает Хрептюгин.
-- Слышал, батюшка, слышал; сказывают, такой чугунный заводище поставили, что только на удивленье!
-- Я люблю, чтоб у меня все было в порядке... завод так чтоб завод, карета так карета... В Москве делают и хорошо, да все как-то не по мне!
-- Ишь ведь как изладили! да что, по ресункам, что ли, батюшка? Не мало тоже, чай, хлопот было! Вот намеднись Семен Николаич говорит: "Ресунок, говорит, Архипушко, вещь мудреная: надо ее сообразить! линия-то на бумаге все прямо выходит: что глубина, что долина? так надо, говорит, все сообразить, которую то есть линию в глубь пустить, которую в долину, которую в ширь..." Разговорился со мной -- такой добреющий господин!
-- Зато хорошо и выходит!
-- Что говорить, сударь; известно, худо не хорошо, а хорошо не худо; так лучше уж, чтоб все хорошо было!.. Что ж, батюшка, самоварчик, что ли, наставить прикажете?
-- Да; там у меня свой... серебряный самовар есть... Петр Парамоныч знает.
-- Ах, как жалко, что наш большой серебряный самовар дома остался! -- замечает Анна Тимофевна.
-- Почему же жалко-с? -- спрашивает Боченков.
-- Да уж я не знаю, Прохор Семеныч, как вам сказать, а все-таки как-то лучше, как большой самовар есть...
-- А оттого это жалко, -- обращается Боченков к Архипу, -- чтобы ты знал, борода, что у нас, кроме малого серебряного, еще большой серебряный самовар дома есть. Понял? Ну, теперь ступай, да торопи скорее малый серебряный самовар!
-- Не мешало бы теперича и закусить, -- говорит Халатов по уходе хозяина.
-- Тебе бы только жрать, -- отвечает Боченков, -- дай прежде горло промочить! Мочи нет как испить хочется! с этим серебряным самоваром только грех один!
-- Нельзя же нам из простых пить! -- возражает Анна Тимофевна, -- мы не какие-нибудь!
Однако самовар готов и ставится на стол: вынимаются шкатулочки, развязываются кулечки, и на столе появляются разные печенья. Demetrius смотрит на них исподлобья и норовит что-нибудь стащить.
-- Насилу и воды-то допросился! -- докладывает Петр Парамоныч, -- эти каверзные богомолки так и набросились, даже из рук рвут!
-- Ты бы, любезный, сказал им, что эта вода для нас нужна.
-- Да что с ними говорить! они одно ладят, что мы, дескать, пешком шли.
В это время опять входит хозяин.
-- Как же это, любезный, -- обращается к нему Хрептюгин, -- у тебя беспорядки такие! воду из рук мужички рвут!
-- Уж извините, сударь! работница, дура, оплошала.
-- То-то же! это не хорошо! везде нужен порядок!
-- Иван Онуфрич, чай готов!
Хрептюгин принимает из рук своей супруги чашку изумительнейшего ауэрбаховского фарфора и прихлебывает, как благородный человек, прямо из чашки, не прибегая к блюдечку. Но Анна Тимофевна, несмотря на все настояния Ивана Онуфрича, не умеет еще обойтись без блюдечка, потому что чай обжигает ей губы. Сверх того, она пьет вприкуску. Халатов и Боченков закуривают сигары; Хрептюгин, с своей стороны, также вынимает сигару, завернутую в лубок -- столь она драгоценна! -- с надписью: bayadere [баядерка (франц.)], и, испросив у дам позволения (как это завсегда делается с благородных опчествах), начинает пускать самые миниатюрные кольца дыма.
-- Ведь вот, кажется, пустой напиток чай! -- замечает благодушно Иван Онуфрич, -- а не дай нам его китаец, так суматоха порядочная может из этого выйти.
-- А какая суматоха? -- возражает Боченков, -- не даст китаец чаю, будем и липовый цвет пить! благородному человеку все равно, было бы только тепло! Это вам, брюханам, будет худо, потому что гнилье ваше некому будет сбывать!
-- Фи, Прохор Семеныч! -- говорит Аксинья Ивановна, -- какие вы выраженья всё употребляете!
-- А правда ли, батюшка Иван Онуфрич, в книжках пишут, будто чай -- зелие, змеиным жиром кропленное? -- спрашивает хозяин.
Хрептюгин благосклонно улыбается.
-- В каких же это, Архип, книжках написано?
-- А вот, сударь, письменные таки книжки есть. "Слово от старчества об антихристовом пришествии" называется... Так там, сударь, именно сказано: "От китян сие..."
-- Пустяки, Архип, это все по неразумию! рассуди ты сам: змея гадина ядовитая, так может ли быть, чтоб мы о сю пору живы остались, жир ее кажный день пимши!
-- "Пимши"! фуй, папа, как вы говорите несносно!
-- Так-то так, сударь, а все как будто сумнительно маненько! А правду ли еще, сударь, в народе бают, некрутчина должна быть вскорости объявлена?
-- По палате не слыхать, -- отвечает Боченков.
-- Пустяки все это, любезный друг! известно, в народе от нечего делать толкуют! Ты пойми, Архип-простота, как же в народе этакому делу известным быть! такие, братец, распоряжения от правительства выходят, а черный народ все равно что мелево: что в него ни кинут, все оно и мелет!
-- Так-с... Это справедливо, сударь, что народ глуп... потому-то он, как бы сказать, темным и прозывается...
-- Ну, а если глуп, так, стало быть, нужно у вашего брата за такие слухи почаще под рубашкой смотреть!
-- Ах, папа, вас уважать совсем нельзя!
В это время Митька стащил со стола такой большой кусок хлеба, что все заметили. Он силится запрятать его в карман, но кусок не лезет.
-- Ишь семя анафемское! -- говорит Боченков, -- мал-мал, а только об том и в мыслях держит, как бы своровать что-нибудь!
-- Ну, куда, куда тебе столько хлеба, Demetrius? -- спрашивает Иван Онуфрич.
Он силится отнять хлеб, но руки Митьки закоченели, и сам он весь обозлился и позеленел. Анна Тимофевна внезапно принимает сторону ненаглядного детища.
-- Чтой-то уж вам, видно, хлеба для родного сына стало жалко! -- говорит она с сердцем.
-- Не жалко, сударыня, хлеба; а дождешься ты того, что он у тебя объестся!
-- Я есть хочу, я есть хочу! -- визжит Demetrius.
-- А и в самом деле закусить бы не худо, Иван Онуфрич! -- замечает Халатов.
-- Ну, что ж с вами будешь делать! вели, брат Архип, там повару что-нибудь легонькое приготовить... цыпляточек, что ли...
-- Ах вы, с своими цыпляточками! -- возражает Боченков, -- а ты вели-ка, Архипушка, первоначально колбасы подать, там в кулечке уложена... Станешь, что ли, колбасу, Иван Онуфрич, есть?
-- Нет, я колбасы есть не могу!
-- Что ж так?
-- Да так... желудок у меня что-то тово... Так я, братец ты мой, его в последнее время усовершенствовал, что окроме чего-нибудь легонького... трухеля, например...
-- Ну, а помнишь ли времечко, как травы сельные пожевывал, камешки переваривал?..
Боченков произносит каждое слово с расстановкой и смотрит Хрептюгину в глаза, наслаждаясь его смущением.
-- Ну, по крайности хошь водочки хватим! -- продолжает он.
-- Не могу, Прохор Семеныч, и водки не могу... разве уж пеперментовой!
-- Эк ты на себя вельможества-то напустил!
Подают закуску. Боченков прежде всего принимается за шпанскую водку и заедает ее огромным куском языковой колбасы; потом по очереди приступает и к другим яствам, не минуя ни одного. Халатов и Анна Тимофевна подражают ему и едят исправно. Митька десять раз уж подавился и наконец в одиннадцатый раз давится до такой степени, что глаза у него почти выскочили и Аксинья Ивановна вынуждена бить его в загорбок. Но Иван Онуфрич ест полегоньку, только отведывает, но и то самых нежных кушаньев: крылышко цыпленка, страсбургского пирога, оленьего языка, копченой стерляди и т. п. Все это стоит дорого и, следовательно, должно быть легко и равносильно крылышку цыпленка.
-- Подать шампанского! -- равнодушно говорит он, обглодавши цыпленка. -- Да холоднего!
-- Ах, папа, вы все-таки говорите "холоднего"!.. Точно вам не все равно сказать: "холодного"?
Парамоныч и Демьяныч суетятся, приносят шампанское "розовое" и разливают его по бокалам.
-- Вот этот напиток я люблю! -- говорит Хрептюгин, медленно смакуя вино, -- потому что это напиток легкий...
-- Ишь ты, и шампанское-то у него не как у людей, -- замечает Боченков, -- розовое!
-- Розовое, братец, нынче в большом ходу! в Петербурге на всех хороших столах другого не подают!.. Я, братец, шампанское вино потому предпочитаю, что оно вино нежное, для желудка необременительное!
-- Так, дружище, так... Ну, однако, мы теперича на твой счет и сыти и пьяни... выходит, треба есть нам соснуть. Я пойду, лягу в карете, а вы, мадамы, как будет все готово, можете легонько прийти и сесть... Только, чур, не будить меня, потому что я спросоньев лют бываю! А ты, Иван Онуфрич, уж так и быть, в кибитке тело свое белое маленько попротряси.
Боченков удаляется.
-- Прегрубиян этот Прошка! -- замечает Иван Онуфрич немедленно по удалении Боченкова.
-- Вольно же вам со всяким мове-жанром связываться, -- вступается Аксинья Ивановна.
-- Что ж станете делать, Аксинья Ивановна! -- говорит Халатов, -- если Иван Онуфриевич Прохору Семеновичу уважения не сделают...
-- Ах ты господи!.. есть же на свете счастливцы! вот, например, графы и князья: они никаких этих Прошек не знают!
Аксинья Ивановна тяжело вздыхает и, сев у окна, устремляет свои взоры в синюю даль, в которой рисуется ей молодой князь Чебылкин в виде
Жука черного с усами
И с курчавой головой...
-- Пора, однако ж, и на боковую! -- возглашает Хрептюгин. -- Ты разбуди меня, Парамоныч, часа через два, да смотри, буди полегоньку... Да скажи ямщикам, чтобы они все эти бубенчики сняли... благородные люди так не ездят!
Между тем внизу, в черной избе, происходит иного рода сцена. Там обедают извозчики, и идет у них разговор дружный, неперемежающийся.
-- Слышал, Еремей, сказывают, что и в здешнем месте чугунка пойдет?
-- Что врать-то! еще накличешь, пожалуй!
-- А чего врать! ты слушай, голова! намеднись ехал я ночью в троечных с барином, только и вздремнул маленько, а лошади-то и пошли шагом. Почуял, что ли, он во сне, что кони не бегут, как вскочит, да на меня! "Ах ты сякой!" да "Ах ты этакой!" Только бить не бьет, а так, знаешь, руками помахивает! Ну, я на него смотрю, что он ровно как обеспамятел: "Ты что ж, мол, говорю, дерешься, хозяин? драться, говорю, не велено!" Ну, он и поприутих, лег опять в карандас да и говорит: вот, говорит, ужо вам будет, разбойники этакие, как чугунку здесь поведут!
-- Чай, постращать только!
-- Чего постращать! Сам, говорит, я в эвтим месте служу, и доподлинно знаю, что чугунке здесь быть положено.
-- А и то, ребята, сами мы виноваты! -- вступается третий голос, -- кабы по-християнски действовали, так, может, и помиловал бы бог... а то только и заботушки у нас, как бы проезжего-то ограбить!
-- Ах ты голова-голова нечесаная! так ведь откуль же ни на будь надо лошадям корму-то добывать! да и хозяйка тоже платочка, чай, просит!
-- Да все же надо бы по сообразности...
-- Намеднись вот проезжал у нас барин: тихий такой... Ехал-то он на почтовых, да коней-то и не случилось, а сидеть ему неохота. Туда-сюда -- вольных... Только и заломил я с него за станцию-то пять серебра, так он ажно глаза вытаращил, однако, подумамши, четыре серебра без гривенника за двадцать верст дал. Ну, приехали мы на другую станцию, ан и там кони в разгоне... Пытали мы в ту пору промеж себя смеяться!..
В это время входят ямщики, везшие Хрептюгина с свитою.
-- Кого приволокли? -- спрашивает первый голос.
-- Кого привезли? черта привезли! -- отвечает один из ямщиков, раздеваясь и с сердцем кидая на полати армяк и кнут.
-- Разве на чай не дали?
-- Дали... двугривенный на всех!
Общий хохот.
-- Ой, Ванюха! купи у меня: лошадь продаю! только уж добавь что-нибудь к двугривенному-то, сделай милость!
Новый хохот.
-- Ишь ты, голова, как человек-от дурашлив бывает! вон он в купцы этта вылез, денег большое место нагреб, так и на чай-то уж настоящего дать не хочет!.. Да ты что ж брал-то?
-- А и то хотел толстобрюхому в рыло кинуть!
-- Что ж не кинул?
-- Заела меня Агашка! все говорит: платок купи, а на что купишь!
-- Да кому вперед-от их везти? Пятрухе, что ли?
-- Мне и есть, -- отзывается Петруха.
-- Смотри же ты, шажком поезжай, баловства им делать не надо! А коли фордыбачить станут, так остановись середь поля, отложи лошадей, да и шабаш!
Через два часа доедали еще извозчики гороховый кисель, а Парамоныч уже суетился и наконец как угорелый вбежал в избу.
-- Кому закладывать? чья очередь? -- спрашивал он впопыхах. -- Господа ехать желают.
-- Поспеешь! -- было ему ответом.
-- Ах вы черти этакие! вот вам ужо барин даст!
Но никто не трогается с места, и извозчики продолжают разговаривать о посторонних предметах. Иван Онуфрич находит себя вынужденным лично вступиться в это дело.
-- Кому закладывать? -- спрашивает он, выпрямляясь во весь рост.
-- Поспеешь еще, господин двугривенный! -- отвечает голос из толпы.
-- Как ты смеешь? -- кричит Хрептюгин, бросаясь вперед с протянутыми дланями.
-- Не шали, руками не озорничай, купец! -- говорит один ямщик.
-- Что ж, разве и пообедать нельзя? -- продолжает другой, -- вольно ж тебе было три часа дрыхнуть здесь!
-- Закладать, что ли, дядя Андрей? -- спрашивает Петруха.
-- Погоди, поспеет!
Иван Онуфрич весь синь от злости; губы его дрожат; но он сознает, что есть-таки в мире сила, которую даже его бесспорное и неотразимое величие сломить не может! Все он себе покорил, даже желудок усовершенствовал, а придорожного мужика покорить не мог!
-- Да закладывайте же, голубчики! -- говорит он умоляющим голосом.
-- То-то "голубчики"! этак-то лучше будет! Ин закладай поди, Пятруха: барин хороший, по целковому на чай дает!
-- Батюшка! не будет ли вашей милости грошик пожаловать! три дня, кормилец, не едала! -- жалобно вопиет старуха старая, сгорбленная и сморщенная.
-- Пошла, пошла прочь! -- кричит Хрептюгин, чувствуя вдруг новый прилив гнева в груди, -- ишь дармоедки какие со всех концов земли собрались!
ГОСПОЖА МУЗОВКИНА
Перенесемся опять на постоялый двор. На этот раз постоялый двор стоит не на почтовом тракте и не среди большого и богатого села, а на боковой, малопроезжей дороге, в небольшой и весьма некрасиво выстроенной деревне. Постоялый двор, о котором идет речь, одноэтажный; в распоряжение проезжающих отдаются в нем всего две комнаты, да и те частенько остаются праздными. В сущности, это не столько постоялый двор, сколько просторная крестьянская изба, выстроенная зажиточным хозяином для своей семьи и готовая к услугам только немногих, да и то лично знакомых ему проезжих господ и купцов. Поэтому самая отделка горниц совершенно отличная от отделки их в настоящих постоялых дворах, в которых встречаются уже дешевые обои по стенам, створчатые окна, ломберные столы и стулья под красное дерево, покрытые волосяною материей или кожей. Тут, напротив того, стены мшёные, оконницы отворяются не иначе, как вверх и с подставочкой, вместо мебели в стены вделаны лавки, которые лоснятся от давнишнего употребления; стол всего один, но и тот простой, с выдвижным ящиком, в котором всегда валяются корки хлеба. Зато в переднем углу поставлен кивот с образами, чего в щегольских и украшенных обоями постоялых дворах уже не бывает.
Но и постоялый двор, и самая дорога, на которой он стоит, как-то особенно любезны моему сердцу, несмотря на то что, в сущности, дорога эта не представляет никаких привлекательных качеств, за которые следовало бы ее любить... По всему протяжению ее идет жестокий и по местам, в полном смысле слова, изуродованный мостовник, на котором и патентованные железные оси ломаются без малейших усилий. В тех немногих местах, где тиранство мостовника исчезает, колеса экипажа глубоко врезываются или в сыпучие пески, или в глубокую, клейкую грязь. Одним словом, это именно такая дорога, от которой, при частой езде, можно поглупеть, вследствие сильных толчков в темя и в затылок. И за всю эту пытку путник ниоткуда не получает никакого вознаграждения; ничто не привлекает его взора, ничто не ласкает его уха, а обоняние поражается даже весьма неприятно. По сторонам тянется тот мелкий лесочек, состоящий из тонкоствольных, ободранных и оплешивевших елок, который в простонародье слывет под именем "паршивого"; над леском висит вечно серенькое и вечно тоскливое небо; жидкая и бледная зелень дорожных окраин как будто совсем не растет, а сменяющая ее по временам высокая и густая осока тоже не ласкает, а как-то неприятно режет взор проезжего. По лесу летает и поет больше птица ворона, издавна живущая в разладе с законами гармонии, а над экипажем толпятся целые тучи комаров, которые до такой степени нестерпимо жужжат в уши, что, кажется, будто и им до смерти надоело жить в этой болотине. И если над всем этим представить себе неблагоуханные туманы, которые, особливо по вечерам, поднимаются от окрестных болот, то картина будет полная и, как видится, непривлекательная.
А тем не менее я люблю ее. Я люблю эту бедную природу, может быть, потому, что, какова она ни есть, она все-таки принадлежит мне; она сроднилась со мной, точно так же как и я сжился с ней; она лелеяла мою молодость, она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какою хотите роскошною природой, накиньте на эту природу какое угодно прозрачное и синее небо, я все-таки везде найду милые мне серенькие тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их, как лучшее свое достояние.
Хозяин постоялого двора, Аким Прохоров, знаком мне с детства. Хотя ему, как он сам выражается, с небольшим сто годков, однако он сохраняет еще всю свою память и бродит довольно бойко, хоть и упирается при этом руками в коленки. Теперь у него шесть сынов, из которых младшему не менее пятидесяти лет, и у каждого из этих сынов тоже свое многочисленное потомство. Если б большая часть этого потомства не была в постоянной отлучке из дому по случаю разных промыслов и торговых дел, то, конечно, для помещения его следовало бы выстроить еще по крайней мере три такие избы; но с Прохорычем живет только старший сын его, Ванюша, малый лет осьмидесяти, да бабы, да малые ребята, и весь этот люд он содержит в ежовых рукавицах.
-- А Аким жив? -- спросил я, вылезая из тарантаса, въехавшего в знакомый мне двор.
-- Слава богу, батюшка! милости просим! -- отвечал мне осьмидесятилетний Ванюша, подхватывая меня под руки, -- давненько, сударь, уж не бывывали у нас! Как папынька? мамынька? Слава ли богу здравствуют?
-- Слава богу, Иван.
-- "Слава богу" лучше всего, сударь!
На верху крыльца встретил меня сам старик.
-- Да никак это Щедринский барчонок? -- сказал он, глядя на меня из-под руки.
Надобно сказать, что Аким звал меня таким образом еще в то время, когда, бывало, я останавливался у него, ребенком, проезжая домой на каникулы и с каникул в гимназию.
-- Да как же ты, сударь, остепенел! видно, уж вышел из ученья-то?
-- Вышел, Аким.
-- Так, сударь; стало быть, на лето-то в деревню погостить собрался?
-- Да, месяца с три пробуду здесь.
-- Это ты, сударь, хорошо делаешь, что папыньку с мамынькой не забываешь... да и хорошо ведь в деревне-то! Вот мои ребятки тоже стороною-то походят-походят, а всё в деревню же придут! в городе, бат, хорошо, а в деревне лучше. Так-то, сударь!
-- Что, у тебя комнаты-то порожние?
-- Порозы, сударь, порозы! Нонче езда малая, всё, слышь, больше по Волге да на праходах ездят! Хошь бы глазком посмотрел, что за праходы такие!.. Еще зимой нештР, бывают-таки проезжающие, а летом совсем нет никого!
-- Здоров ли ты, по крайней мере?
-- Больше все лежу, сударь! Моченьки-то, знашь, нету, так больше на печке живу... И вот еще, сударь, како со мной чудо! И не бывало никогда, чтобы то есть знобило меня; а нонче хошь в какой жар -- все знобит, все знобит!
-- Ты, дедушко, и теперь бы на печку шел! -- сказала молодуха, пришедшая за нами прибрать кое-что в горнице, в которую мы вошли.
-- Не замай! вот маленько с барчонком побеседуем... Старинные мы с тобой, сударь, знакомые!
-- Внучка, что ли, это твоя?
-- Мнукова, сударь, жена... Петрушу-то моего, чай, знаешь? так вот его-то сына -- мнука мне-то -- жена... У меня, сударь, шесть сынов, и у каждого сына старший сын Акимом прозывается, и не сообразишь их!
-- А где же теперь твои сыновья? -- спросил я, зная наперед, что старик ни о чем так охотно не говорит, как о своих семейных делах.
-- Старшой-ет сын, Ванюша, при мне... Второй сын, Кузьма Акимыч, графскими людьми в Москве заправляет; третий сын, Прохор, сапожную мастерскую в Москве у Арбатских ворот держит, четвертый сын, Петруша, у Троицы в ямщиках -- тоже хозяйствует! пятой сын, Семен, у Прохора-то в мастерах живет, а шестой, сударь, Михеюшко, лабаз в Москве же держит... Вот сколько сынов у меня! А мнуков да прамнуков так и не сосчитать... одной, сударь, своею душой без двух тридцать тягол его графскому сиятельству справляю, во как!
-- Что ж, сыновья-то от себя, что ли, торгуют?
-- Покуда я живу, так все будто я торгую... только стали они ноне отбиваться от меня: и глаз ко мне не кажут, да и денег не шлют... старшенькому-то, Ванюшке-то, и обидненько!
-- Стар ты уж, видно, стал, Аким!
-- Вестимо, не прежние годы! Я, сударь, вот все с хорошим человеком посоветоваться хочу. Второй-ет у меня сын, Кузьма Акимыч, у графа заместо как управляющего в Москве, и граф-то его, слышь, больно уж жалует. Так я, сударь, вот и боюсь, чтоб он Ванюшку-то моего не обидел.
-- А ты бы их при жизни в раздел пустил.
-- Так я, сударь, и пожелал; только что ж Кузьма-то Акимыч, узнавши об этом, удумал? Приехал он ноне по зиме ко мне: "Ты, говорит, делить нас захотел, так я, говорит, тебе этого не позволяю, потому как я у графа первый человек! А как ты, мол, не дай бог, кончишься, так на твоем месте хозяйствовать мне, а не Ивану, потому как он малоумный!" Так вот, сударь, каки ноне порядки!
-- Да разве Иван-то малоумный?
-- Какой он малоумный! Вестимо попроще против других будет, потому что из деревни не выезжает, а то какой же он малоумный? как есть хрестьянин!
-- Так что же ты хочешь сделать?
-- А вот, сударь, думал я было сначала к нашему графу писемцо написать... да и боязно словно: боюсь, как бы не обиделся на меня его сиятельство!
-- Что ж тут обидного?
-- Как! -- скажет, -- ты, мой раб, хочешь меня, твоего господина, учить? коли я, скажет, над тобой сына твоего начальником сделал, значит, он мне там надобен... Нет тебе, скажет, раздела!
Следует заметить, что когда дело доходило до передачи речей Кузьмы Акимыча, Акима Кузьмича и графа, Аким вставал с лавки и, вставши в позицию, декламировал эти речи, принимая возможный, при его дряхлости, величественный и повелительный вид.
-- Разве у вас граф-то сердитый?
-- А кто ж его, сударь, знает, какой он? Только вот Кузьма-то Акимыч говорит, будто уж очень он грозен.
-- Да Кузьма-то, может быть, только застращать тебя хочет?
-- Думал я, сударь, и так; да опять, как и напишешь-то к графу? по-мужицки-то ему напишешь, так он и читать не станет, вот что! Так уж я, сударь, подумавши, так рассудил, чтоб быть этому делу как бог укажет!
-- Ну, а если Кузьма-то в самом деле Ивана обидит?
-- Обидит, сударь, это уж я вижу, что беспременно обидит! Жалко, уж и как жалко мне Иванушка! Пытал я тоже Кузьму-то Акимыча вразумлять! "Опомнись, мол, говорю, ты ли меня родил, или я тебя родил? Так за что ж ты меня на старости-то лет изобидеть хочешь!"
-- Что ж он?
-- Ну, он поначалу было и вразумился, словно и посмирнел, а потом сходил этта по хозяйству, все обсмотрил: "Нет, говорит, воля твоя, батюшка, святая, а только уж больно у тебя хозяйство хорошо! Хочу, говорит, надо всем сам головой быть, а Ванюшку не пущу!"
Аким уперся руками в коленки и закручинился.
-- И в кого это он у меня, сударь, такой лютый уродился! Сына вот -- мнука мне-то -- ноне в мясоед женил, тоже у купца дочку взял, да на волю его у графа-то и выпросил... ну, куда уж, сударь, нам, серым людям, с купцами связываться!.. Вот он теперь, Аким-то Кузьмич, мне, своему дедушке, поклониться и не хочет... даже молодуху-то свою показать не привез!
-- Однако Кузьма-то у тебя, видно, неладный вышел...
-- Что станешь с ним, сударь, делать! Жил-жил, все радовался, а теперь вот ко гробу мне-ка уж время, смотри, какая у нас оказия вышла! И чего еще я, сударь, боюсь: Аким-то Кузьмич человек ноне вольной, так Кузьма-то Акимыч, пожалуй, в купцы его выпишет, да и деньги-то мои все к нему перетащит... А ну, как он в ту пору, получивши деньги-то, отцу вдруг скажет: "Я, скажет, папынька, много вами доволен, а денежки, дескать, не ваши, а мои... прощайте, мол, папынька!" Поклонится ему, да и вон пошел!
-- Вас, сударь, барынька тут одна спрашивает, -- доложил мне вошедший в это время Иван.
-- Какая барынька?
-- А кто ее, сударь, ведает! побиральщица должна быть! она у нас уж тут трои суток живет, ни за хлеб, ни за тепло не платит... на богомолье, бает, собиралась... позвать, что ли, прикажете?
-- Не пущай, сударь... чай, гривенничка выпросить хочет! -- предостерег меня Аким.
Но барынька, вероятно, предчувствовала, что найдет мало сочувствия в Акиме, и потому, почти вслед за Иваном, сама вошла в горницу. Это была маленькая и худощавая старушка, державшаяся очень прямо, с мелкими чертами лица, с узенькими и разбегающимися глазками, с остреньким носом, таковым же подбородком и тонкими бледными губами. Одета она была в черный коленкоровый капот, довольно ветхий, но чистый; на плечах у нее был черный драдедамовый платок, а на голове белый чепчик, подвязанный у подбородка.
-- Я, милостивый государь, здешняя дворянка, -- сказала она мне мягким голосом, но не без чувства собственного достоинства, -- коллежская секретарша Марья Петровна Музовкина, и хотя не настоящая вдова, но по грехам моим и по воле божией вдовею вот уж двадцать пятый год...
-- Что же вам угодно, сударыня?.. да садитесь, пожалуйста.
-- Мне, милостивый государь, чужого ничего не надобно, -- продолжала она, садясь возле меня на лавке, -- и хотя я неимущая, но, благодарение богу, дворянского своего происхождения забыть не в силах... Я имею счастие быть лично известною вашим папеньке-маменьке... конечно, перед ними я все равно, что червь пресмыкающий, даже меньше того, но как при всем том я добродетель во всяком месте, по дворянскому моему званию, уважать привыкла, то и родителей ваших не почитать не в силах...
-- Ах, Марья Петровна! -- прервал ее старик Аким, -- уж ты бы лучше прямо, сударыня, у барчонка гривенничка попросила, нечем околесицу-то эту городить!
-- Вот, милостивый государь, каким я, по неимуществу моему, грубостям подвержена, -- сказала Музовкина, нисколько не конфузясь, -- конечно, по-християнски я должна оставить это втуне, но не скрою от вас, что если бы не была я разлучена с другом моим Федором Гаврилычем, то он, без сомнения, защитил бы меня от напрасных обид...
-- Ох, сударыня! ты, чай, киятры-то эти перед всяким проезжающим представляешь!
-- А хоша бы и представляла, Аким Прохорыч, то представляю киятры я, а не вы... следовательно, какой же вам от того убыток? Хотя я и дворянка званием, Аким Прохорыч, но как при всем том я сирота, то, конечно, обидеть меня всякому можно...
-- Ну, да бог с тобой! говори, я тебе не препятствую.
-- Что же вам угодно? -- повторил я.
-- Я чужого не желаю, милостивый государь, -- опять начала она, -- я прошу только об одном, чтобы вы милостиво меня выслушали.
-- В таком случае, уж распорядись, Аким, чтобы там самовар скорее подали, да закусить что-нибудь... ведь вы не откажетесь закусить со мною, Марья Петровна?
-- Я сыта, сударь. Но если вам непременно угодно, чтоб я ела, я должна исполнить ваше желание...
-- Помилуйте, сударыня! как вам будет угодно.
-- Я прошу вас, милостивый государь, только выслушать меня. Родители мои, царство им небесное, были происхождения очень хорошего, и имели в здешнем месте своих собственных десять душ-с. Папенька мой держали меня очень строго, потому что человек в юношестве больше всего всякими соблазнами, как бы сказать, обуреваем бывает, и хотя сватались за меня даже генералы, но он согласия своего на брак мой не дал, и осталась я после их смерти (маменька моя еще при жизни ихней скончались) девицею. Имела я тогда всего-навсе двадцать пять лет от роду, и, по невинности своей, ничего, можно сказать, не понимала: не трудно после этого вообразить, каким искушениям я должна была подвергнуться! А больше еще и по тому особливому случаю искушения сделались для меня доступными, что в это время в нашем селе имел квартирование полк, и следовательно, какую ж я могла иметь против этого защиту? Конечно, я, как дочь, не смею против родителя роптать, однако и теперь могу сказать, что отдай меня в ту пору папенька за генерала, то не вышло бы ничего, и не осталась бы я навек несчастною... Папенька в ту пору говорили, что будто бы генерал, который за меня сватался, пьют очень много, однако разве не встречаем мы многие примеры, что жены за пьяными еще счастливее бывают, нежели за трезвыми?
Едва она успела предложить мне этот вопрос, как принесли самовар, и я должен был оторваться от нее на минуту, чтобы сделать чай.
-- Уж если будет ваше одолжение, милостивый государь, -- сказала она, -- то позвольте чашечку и мне, но без сахару, потому что я, по моим обстоятельствам, вынуждаюсь пить вприкуску... Я остановилась, кажется, на том, что осталась после папеньки сиротою. Много мне стоило слез, чтобы женскую слабость мою преодолеть, однако я ее не пересилила и, по молодости моей, не устояла против соблазна. Был тут, в этом полку, один поручик; покорыствовался он, сударь, на мое родительское достояние и вовлек меня с собою в любовь. Из себя он был столько хорош, что даже в картинах нынче уж таких мужчин не пишут, обращение имел учтивое и одевался завсегда очень чисто. Следовательно, могла ли я, при моей неопытности, против льстивых его уверений устоять? Уговаривал он меня, за такую ко мне его любовь, заемное письмо ему дать, и хоша могла я из этого самого поступка об его злом намерении заключить, однако ж не заключила, и только в том могла себя воздержать, что без браку исполнить его просьбу не согласилась. Ну, это точно, что он желанию моему сопротивления не сделал, и брачную церемонию всю исполнил как следует, я же, по своей глупости, и заемное письмо ему в семь тысяч рублей ассигнациями в тот же вечер отдала... Только что ж бы думали он со мной, сударь, сделал? Первое дело, что избил меня в то время ужаснейшим образом, за то будто бы, что я не в своем виде замуж за него вышла; да это бы еще ничего, потому что, и при строгости мужниной, часто счастливые браки бывают; а второе дело, просыпаюсь я на другой день, смотрю, Федора Гаврилыча моего нет; спрашиваю у служанки: куда девался, мол, Федор Гаврилыч? отвечает: еще давеча ранехонько на охоту ушли. И вот, милостивый государь, с самого этого времени и до сей минуты Федор Гаврилыч все с охоты не возвращается!
Она остановилась и устремила взоры свои на меня, как бы выжидая, чтоб я высказался.
-- Что ж, -- сказал я, -- быть может, это и к лучшему для вас, сударыня, потому что, судя по началу, едва ли вы могли ожидать чего-нибудь хорошего от Федора Гаврилыча.
-- И я, милостивый государь, по началу точно так думала, однако вышло совсем напротив. Вы забыли об заемном-то письме, а Федор Гаврилыч об нем не забыл. На другой день сижу я и, как следует молодой женщине, горюю, как вдруг входит ко мне ихней роты капитан, и самое это заемное письмо в руке держит. И что ж, сударь, я от него узнала? что Федор Гаврилыч этому самому капитану состоял еще прежде того одолженным четыре тысячи рублей, и как заплатить ему было нечем, то и отдал в уплату заемное письмо на меня!.. Ну, конечно, я сразу обидеть себя не дала, а тоже судом с капитаном тягалась, однако ничего против него сделать не могла!.. И таким, сударь, родом, в одну, можно сказать, ночь лишилась я и Федора Гаврилыча и всего моего имущества!
-- Вы, быть может, желаете, чтоб я помог вам, сударыня?
-- Я, милостивый государь, чужого ничего не желаю; я прошу вас только выслушать меня... Осталась я, после этого происшествия, при одной рабе да при трех десятинах земли, которые капитан мне из милости предоставил. Конечно, и с трех десятин я могла бы еще некоторую поддержку для себя получать, но их, сударь, и по настоящее время отыскать нигде не могут, потому что капитан только указал их на плане пальцем, да вскоре после того и скончался, а настоящего ничего не сделал. Пришлось, сударь, идти после этого в люди!
Марья Петровна пожелала отдохнуть и опять остановилась, и хотя я убежден был, что рассказ ее был заученный, однако не без любопытства следил за ее болтовней, которая для меня была делом совершенно новым. Она, впрочем, не сидела даром и в течение отдыха, а как-то прискорбно и желчно вздрагивала губами и носом, приготовляясь, вероятно, к дальнейшему рассказу своих похождений.
-- Уговорила меня, сударь, к себе тутошняя одна помещица к ней переселиться: "Живите, говорит, при мне, душенька Марья Петровна, во всем вашем спокойствии; кушать, говорит, будете с моего стола; комната вам будет особенная; платьев в год два ситцевых и одно гарнитуровое, а занятия ваши будут самые благородные". Я, однако ж, остереглась и выговорила тут ей, что я, мол, Анфиса Ивановна, роду не простого, так не было бы у вас для меня обиды... Только она, сударь, против этого и забожилась и заклялась. И жила я у ней таким манером лет пять, и точно, грех сказать, кроме хорошего, обиды от нее никакой не видала. Чай ли, бывало, кофий ли пьют, я свою чашку безотменно получала, а занятия только у меня и было, что после обеда в карты Анфисе Ивановне, бывало, погадаешь. Только замешалась тут дочка Анфисы Ивановны, и с нее-то пошло у нас все дело. При поступлении моем в дом моей благодетельницы, было ихнему дитяти всего лет двенадцать, а потом стали оне постепенно подрастать и достигли наконец совершенного возраста. Но, достигши таким манером законных лет, выказали оне при этом чувства совершенно не господские, а скорее, как бы сказать, холопские. Полюбился им, с своей стороны, наш становой Дмитрий Михайлыч: в этом, конечно, оне имели резон, потому что Дмитрий Михайлыч был из себя мужчина очень видный, но для чего ж оне меня тут припутали? Разве я тут в чем-нибудь, сударь, виновата, что Дмитрий Михайлыч не Вере Павловне, а мне предпочтение оказывал? Однако оне этому не вняли, и пошла тут мне от них во всем обида большая. Анфиса Ивановна тоже не желали такую партию для дитяти своего упустить, и начали меня попрекать всем-с: даже куски, которые я в пять лет съела, и те, кажется, пересчитали! Однако как видела я свою правоту, то терпела до последнего, и прожила у них до тех пор, покуда оне сами меня не выгнали... Тогда я, заявивши пред добрыми людьми о моей невинности, хоша, как християнка, в душе и простила Анфисе Ивановне ее обиду, однако, как дворянка, не могла свое звание позабыть и стала искаться на ней судом в личной обиде-с...
Марья Петровна, сказавши это, посмотрела на меня как-то особенно проницательно.
"Уж не хочет ли она застращать меня или вызвать на какое-нибудь оскорбление?" -- подумал я и потом прибавил вслух:
-- Что ж, выиграли вы ваше дело?
-- Нет-с; выиграть я не могла, потому что не имела средств вести его, однако Анфисе Ивановне большую через это неприятность сделала, так что, после того, не только Дмитрий Михайлыч, но и никто другой к Вере Павловне касательства иметь не захотел, и пребывают оне и до настоящей минуты в девичестве...
-- Ну, а вы-то сами что через это выиграли?
-- Выиграла я или не выиграла, это дело стороннее-с, а должна же я была за оскорбление моей чести вступиться, потому что друга моего Федора Гаврилыча со мной нет, и следственно, защитить меня, сироту, некому... Но я прошу вас сделать мне одолжение, выслушать меня. Расставшись с Анфисой Ивановной, я отправилась к соседке ее по имению, госпоже Говорковой. Госпожа Говоркова были вдова и весьма страдали нервами, а так как я очень искусна в обращении с чувствительными дамами, то оне приняли меня к себе с величайшим удовольствием. Откровенно сознаюсь вам, милостивый государь, много видала я на своем веку нервных дам, и сама даже до сих пор этим очень страдаю, однако столько расстроенной госпожи, сколько была расстроена Дарья Григорьевна, я никогда и не знавала. Бывало, начнут оне страдать, так это именно жалости подобно; только один Иван Карлыч, учитель ихних детей, и имели возможность эти припадки усмирять! Прожила я таким родом и у Дарьи Григорьевны три года с лишком и обиды для себя никакой от них не видала. Да и не случился бы у нас с ними никогда разрыв, если бы не Иван Карлыч. Соскучились, что ли, ими Дарья Григорьевна, или показался им очень приятен ихний новый управляющий Карл Иваныч, только оне во всем мне открылись и просили моего посредничества. Согласитесь, милостивый государь, могла ли я в чем-нибудь благодетельнице моей отказать? а если не могла отказать, то, следственно, в чем же тут моя вина состоит? Однако Иван Карлыч об этом узнали, пришли в восторженность и всячески меня при людях раскостили! И такова была слабость Дарьи Григорьевны, что оне меня же, свою покорную слугу, по настоянию Ивана Карлыча из дому своего выгнали...
-- Что ж, вы, я думаю, и об этом происшествии просьбу в суд подали?
-- Подала, сударь, и хотя опять дело мое проиграла, однако не могла же я не подать просьбы, потому что дворянскую свою честь очень знаю, и защищать ее, по закону, завсегда обязываюсь... После того...
-- Нет, позвольте... для меня этого достаточно. Я желал бы только знать, чем вы в настоящее время занимаетесь и по какому случаю находитесь здесь?
-- Позвольте мне, милостивый государь, попросить вас выслушать меня...
-- Извините, но для меня весьма достаточно сказанного вами, и я желал бы знать, на какой конец вы удостоили меня своею доверенностью?
-- В настоящее время, пришедши в преклонность моих лет, я, милостивый государь, вижу себя лишенною пристанища. А как я, с самых малых лет, имела к божественному большое пристрастие, то и хожу теперь больше по святым монастырям и обителям, не столько помышляя о настоящей жизни, сколько о жизни будущей...
-- Что же вам от меня угодно, сударыня?
Она встала с лавки, призвала на помощь всю сумму чувства собственного достоинства, какая была у нее в распоряжении, и сказала:
-- Милостивый государь! я чужого ничего не желаю, но если бы вам угодно было одолжить мне заимообразно хотя пять рублей, то я весьма была бы вами облагодетельствована!
Я готовился уже вынуть из бумажника требуемые деньги, как в то же самое время, гремя бубенчиками и колокольцами, к воротам подъехал экипаж, и я услышал в сенях знакомый мне голос Семена Иваныча Призорова, соседа моего по имению, а Марья Петровна, при первых звуках этого голоса, заметно сконфузилась.
-- Милостивый государь! позвольте вас поторопить, потому что я не желала бы, чтоб заклятой мой враг видел мое унижение! -- сказала она.
Но было уже поздно, потому что дверь в эту минуту отворилась, и Призеров вошел в горницу.
-- Ба! да и ты здесь, Скорпиона Аспидовна? -- обратился он к Музовкиной, поздоровавшись со мной, -- по какому же ты случаю становище свое переменила? верно, в Михайловском уж ремесло-то твое сделалось невыгодно?
-- Я не знаю, что вам угодно сказать, Семен Иваныч, а как я никаким ремеслом не занимаюсь, -- стало быть, слова ваши ничего больше, как обида мне...
-- Уж не просила ли она и у вас денег? -- продолжал между тем Призеров, -- упаси вас боже дать что-нибудь!.. ну-с, Скорпиона Аспидовна, налево кругом, марш!
-- Помилуйте, Семен Иваныч, я чужого ничего не желаю, а прошу только заимообразно...
Но Семен Иваныч ничего не хотел слышать и, повернув Марью Петровну довольно бесцеремонно, выпроводил ее из комнаты.
Дня через три, будучи в деревне, я получил от Призорова записку следующего содержания:
"Любезнейший Николай Иваныч! После того, как мы с вами расстались, известная вам Скорпиона Аспидовна сочла нужным подать на вас прошение, с которого препровождая при сем копию, прошу вас принять уверение, и пр.".
В прошении было изображено:
"Такого-то числа, месяца и года, собравшись я, по усердию моему, на поклонение св. мощам в *** монастырь, встречена была на постоялом дворе, в деревне Офониной, здешним помещиком, господином Николаем Иванычем Щедриным, который, увлекши меня в горницу. (следовали обвинительные пункты).
И потому о таковом насильственном со мною поступке господина помещика Щедрина, доводя до сведения *** уездного суда"...
"Однако ж это, черт возьми, скверно!" -- подумал я, прочитавши прошение, и приказал закладывать лошадей, чтоб ехать немедленно в город.
ДРАМАТИЧЕСКИЕ СЦЕНЫ И МОНОЛОГИ
ПРОСИТЕЛИ
Провинциальные сцены
действующие лица
Князь Лев Михайлович Чебылкин, старец, украшенный сединами, с кротким и благосклонно улыбающимся лицом; походка медленная, голос мягкий, почти младенческий
Княжна Анна Львовна, дочь его, высокомерная девица, лет тридцати пяти
Самуил Исакович Шифель, неизвестных лет, медик, обладающий походкой так называемых австрийских камергеров, с перевальцем, с трудом скрывает свое иудейское происхождение. Шифель -- доверенное лицо князя.
Отставной капитан Пафнутьев, проситель шестидесяти лет, с подвязанною рукою и деревяшкой вместо ноги вид имеет не столько воинственный, сколько наивный, голова плешивая, усы и бакенбарды от старости лезут, напротив того, на местах, где не должно быть волос, как-то на конце носа, оконечностях ушей, -- таковые произрастают в изобилии. До появления князя стоит особняком от прочих просителей, по временам шмыгает носом и держит в неповрежденной руке приготовленную заранее просьбу.
Отставной подпоручик Живновский Об этом лице зри рассказ "Обманутый подпоручик"
Петр Федоров Забиякин, тридцати пяти лет, проситель, в венгерке и широких шароварах, носит усы и говорит тенором. Комплекции плотной Сентиментальный буян
Александр Петрович Налетов, двадцати пяти лет, помещик Смотрит очень гордо и до появления князя беспокойно ходит взад и вперед по комнате С так называемыми gens de rien [низшими людьми (франц.)] говорит отрывисто, прибавляя букву э и подражая голосом и манерами начальственным лицам
Фома Белугин, купец 3-й гильдии, в поношенном сюртуке и шелковой жилетке, физиономия замасленная, тучен или, лучше сказать, жирен от спанья; бороды не бреет
Егор Скопищев -- тоже, ходит в русской одежде, страдает одышкой и потому вздыхает
Петр Долгий; Семен Малявка; Алексей Сыч - пейзане.
Анна Ивановна Хоробиткина, двадцати лет, жена канцеляриста, разодетая в пух, декольте и тщательно напомаженная.
Вдова, коллежская секретарша Шумилова, сорока лет; физиономию имеет оскорбленную, до появления князя стоит молча в углу и нередко вытирает слезящиеся глаза и сморкает нос.
Разбитной, двадцати двух лет, чиновник при его сиятельстве; баловень фортуны, из породы тех, которых губернские дамы любят за comme il faut; [светскость (франц.)] ходит очень прямо и надменно, но, в сущности, добрый малый, хотя и пустой.
Дежурный чиновник.
Действие происходит в губернском городе Крутогорске.
СЦЕНА I
Театр представляет приемную комнату в доме князя Чебылкина. При открытии занавеса просители стоят небольшими группами: Живновский с Забиякиным, Белугин с Скопищевым, Хоробиткина с Шумиловой; один Пафнутьев стоит особняком. Долгий, Малявка и Сыч стоят по стенке и по временам испускают глубокие вздохи.
Забиякин (Живновскому). И представьте себе, до сих пор не могу добиться никакого удовлетворения. Уж сколько раз обращался я к господину полицеймейстеру; наконец даже говорю ему: "Что ж, говорю, Иван Карлыч, справедливости-то, видно, на небесах искать нужно?" (Вздыхает.) И что же-с? он же меня, за дерзость, едва при полиции не заарестовал! Однако, согласитесь сами, могу ли я оставить это втуне! Еще если бы честь моя не была оскорблена, конечно, по долгу християнина, я мог бы, я даже должен бы был простить...
Живновский. Да... да... християнский долг прощать повелевает... это, знаете, у русских в обычае...
Забиякин. Но, сознайтесь сами, ведь я дворянин-с; если я, как человек, могу простить, то, как дворянин, не имею на это ни малейшего права! Потому что я в этом случае, так сказать, не принадлежу себе. И вдруг какой-нибудь высланный из жительства, за мошенничество, иудей проходит мимо тебя и смеет усмехаться!
Живновский. А позвольте спросить, эту усмешку кто-нибудь видел?
Забиякин. Как же-с, были благородные свидетели: Павел Иваныч Техоцкий, Дмитрий Николаич Подгоняйчиков -- все именно видели, как он с презрительным видом усмехнулся. Так что ж бы вы думали, Иван Карлыч-то? "Да я, говорит, тебя, скотина, в бараний рог согну; да ты, говорит, еще почище будешь, гадина, нежели еврей Гиршель"... Ну, и тут были тоже свидетели-с, как он меня таким манером обзывал! А Иван Карлыч на то намекают, что я здесь нахожусь под надзором по делу об избитии якобы некоего Свербило-Кржемпоржевского, так я на это имел свои резоны-с; да к тому же тут есть еще "якобы", стало быть, еще неизвестно, кто кого раскровенил-с.
Живновский. Да, да, по-моему, ваше дело правое... то есть все равно что божий день. А только, знаете ли? напрасно вы связываетесь с этими подьячими! Они, я вам доложу, возвышенности чувств понять не в состоянии. На вашем месте, я поступил бы как благородный человек...
Движение со стороны Забиякина...
То есть вы не думайте, чтоб я сомневался в благородстве души вашей -- нет! А так, знаете, я взял бы этого жидочка за пейсики, да головенкой-то бы его об косяк стук-стук... Так он, я вам ручаюсь, в другой раз смотрел бы на вас не иначе, как со слезами признательности... Этот народ ученье любит-с!
Г-жа Хоробиткина (обмахиваясь и обиженным голосом). Их сиятельство, кажется, изволили забыть, что их ожидают просители.
Живновский (подмигивая Забиякину). Лакомый кусочек! а! посмотрите-ко, телеса какие!
Белугин (озлобленно). Да-с, часочка поди два уж дожидаемся!
Скопищев вздыхает; ему вторят Долгий, Малявка и Сыч; Пафнутьев усиленно шмыгает.
Кому делать нече, оно в охотку здесь разговаривать-то... (Смотрит на Живновского и Забиякина.)
Забиякин (Живновскому). Ведь этакой жестокий, необразованный народ! Даже подождать не может! даже не постигает, что образованные люди могут найти высокое наслаждение в откровенной беседе!.. Это у них, изволите видеть, не дело!
Белугин (усмехаясь). А неужто ж и дело -- слушать, как вы сквернословите?
Забиякин (не слушая его). А знаете ли, что по-ихнему дело называется? продать связку-другую баранков, надуть при этом на копейку -- вот это дело-с!.. Принадлежа к высшему классу общества, знаете, даже как-то совестно за них, совестно за отечество.
Живновский. А вот, дайте срок, мы их маленько переберем-с... у меня это такая уж манера: до страсти люблю трепать ихние бороды...
Белугин (язвительно, но с легким оттенком сомнения в справедливости своих собственных слов). Ну, это еще как удастся бороды-то трепать! Эва! не убивши еще медведя, уж шкуру продает!.. только чудо, право!
Живновский. Ладно, брат, еще так вычешем, что твой стланец! (К Забиякину.) Так вы, собственно, по делу о жиде сюда пожаловали?
Забиякин. Да-с, вот и просьба в этом смысле написана... тут вот сбоку покрупнее написано вкратце содержание: о медленности крутогорского полицеймейстера Кранихгартена по делу об обиде евреем Гиршелем отставного прапорщика Забиякина -- знаете, чтоб его сиятельству сразу было видно, в чем дело.
Живновский. Так вы тоже военная косточка?.. Очень рад, очень рад быть знакомым.
Забиякин. Как же-с; служил шесть месяцев в Крапивенском егерском полку; только в атаках быть не удостоился -- что делать-с? всякому свое счастье!
Живновский. Очень приятно. Но знаете ли, я вам, как старый товарищ, правду-матку должен сказать: едва ли вы получите удовлетворение по просьбе...
Забиякин. Почему же-с?
Живновский. Потому что тут, знаете, шахер-махер, рука руку моет... (Шепчет Забиякину на ухо и потом продолжает вслух.) После этого, каким же образом? ну, я вас спрашиваю, будьте вы сами на месте князя!
Забиякин (пожимая плечами и обращая сентиментально глаза к небу). После ваших слов, что ж остается делать, как не склониться перед волею провидения!
Живновский. Тут, батюшка, толку не будет! То есть, коли хотите, он и будет, толк-от, только не ваш-с, а собственный ихний-с!.. Однако вы вот упомянули о каком-то "якобы избитии" -- позвольте полюбопытствовать! я, знаете, с молодых лет горячность имею, так мне такие истории... знаете ли, что я вам скажу? как посмотришь иной раз на этакого гнусного штафирку, как он с камешка на камешок пробирается, да боится даже кошку задеть, так даже кровь в тебе кипит: такая это отвратительная картина!
Забиякин (конфузясь). Да вы, поручик, быть может, полагаете, что тут...
Живновский. И, полноте! уж, верно, тут найдутся всякие милые мордасы, любезные зуботычины... ха-ха!
Забиякин. Извольте видеть, были мы как-то в трактирном заведении, ну, и Свербило-Кржемпоржевский тут же...
Живновский. И фамилия-то какая анафемская! Ну, как же таких людей не бить-то!
Забиякин. Я, знаете, давно этого господина недолюбливал, потому что он хоть и не то чтобы совсем жид, а все-таки жидом припахивает... смесь, знаете, жида с меделянскою собакой...
Скопищев (вполголоса). Ведь эва что выдумал!
Забиякин. Только он сидит и прихлебывает себе чай... ну, взорвало, знаете, меня, не могу я этого выдержать! Пей он чай, как люди пьют, я бы ни слова -- бог с ним! а то, знаете, помаленьку, точно бог весть каким блаженством наслаждается... Ну, я, конечно, в то время его раскровенил.
Живновский. Ха-ха! отлично! Знаете, вы напомнили мне мою молодость! (Жмет ему руку.)
Забиякин (с чувством). Ну, а вы, поручик, вы по какому случаю... здесь?
Живновский. У меня дело верное. Жил я, знаете, в Воронежской губернии, жил и, можно сказать, бедствовал! Только Сашка Топорков -- вот, я вам доложу, душа-то! -- "скатай-ко, говорит, в Крутогорск; там, говорит, винцо тенериф есть -- так это точно мое почтение скажешь!" -- ну, я и приехал!
Забиякин. Какие же ваши намерения, если позволено будет полюбопытствовать?
Живновский. А намерения мои -- городишко какой-нибудь получить... так, знаете, немудреный -- чтоб река была судоходная, ну, или там раскольники, что ли... одним словом, чтобы влачить существование было возможно.
Забиякин. Да, это статьи хорошие-с; не знаешь даже, которой отдать преферанс (подумав), а всего бы лучше, кабы обе вместе соединить... не правда ли, поручик?
Пафнутьев, который в это время прислушивался к разговору, вдруг прыскает со смеху от одной идеи возможности осуществления предположений Забиякина.
Живновский. Ишь его разобрало! (Тихо Забиякину.) Верно, совместник-с... раненый...
Забиякин. Не имею удовольствия знать. А впрочем, осмелюсь вам доложить, поручик, что нынче места подобного рода ужасно как туго даются. Был у меня знакомый... ну, самый, то есть, милый человек... и образованный и с благородными чувствами... так он даже целый год ходил, чтоб только место станового получить, и все, знаете, один ответ (подражая голосу и манере князя Чебылкина): "Нет места, нет, мой милый, нет места! подождите, любезный!" Так он, знаете ли, какую штуку удрал! "Коли, говорит, нет у вашего сиятельства места станового, так, по крайней мере, позвольте хоть в жены станового!"
Живновский. Ха-ха! а ведь, знаете, он не глупо выдумал, ваш приятель! бывают случаи, что женой станового даже выгоднее быть, нежели самим становым!
Белугин (вполголоса). Ишь наругатели какие!
Забиякин. И что ж бы вы думали? Этой, можно сказать, блистательной фразе приятель мой обязан был местом! Его сиятельство улыбнулись: "Ну, уж, говорит, коли так тебя забрало, дать ему место станового!" Оно выходит и справедливо, что с вельможами нужно быть завсегда откровенным, -- потому что вельможа, вы понимаете, так воспитан, что благородство чувств ему доступно... Вот был у нас начальник -- Бенескриптов (из прискорбных-с), так этот, бывало, и разговаривать не станет. "Давай, говорит, мне прежде наличными". Ну, а сами знаете, где же благородному человеку наличных взять? благородный человек является как есть, с открытою душой... Другое дело впоследствии, когда, знаете, оперится... ну, тогда точно что было бы неблагодарно не уделить начальству.
Живновский (задумчиво). Ну, нет, от меня уж не отвертится... я, пожалуй, и за горло ухвачу. (Поднимает руки и расставляет пальцы граблями.)
Забиякин. Конечно-с; такого подчиненного, как вы, иметь приятно.
Живновский. Еще бы! насчет этой исполнительности я просто не человек, а огонь! Люблю, знаете, распорядиться! Ну просто, я вам вот как доложу: призови меня к себе его сиятельство и скажи: "Живновский, не нравится вот мне эта борода (указывает на Белугина), задуши его, мой милый!" -- и задушу! то есть, сам тут замру, а задушу.
Белугин плюет.
Не плюйся, не плюйся, борода! погоди плеваться-то!
СЦЕНА II
Те же и Налетов.
Налетов (входит с шумом; в одном глазу у него стеклышко; он останавливается посреди залы и окидывает взглядом просителей. Пафнутьев ему кланяется). Э... скажите, пожалуйста, князь принимает?
Ответа нет; только Пафнутьев подается вперед, но и тот шмыгает.
Э... это удивительно! в передней никого нет... что за genre! (Ходит по зале.)
Белугин (вынимает из жилетки серебряную луковицу). Да-с; теперича будет часика три, как дожидаемся... (К Скопищеву.) А что, Егор Иваныч, видно, убраться отселева за добра-ума.
Скопищев (вздыхая). Дело-то наше такое... нет, уж заодно, видно, подождать, Фома Савич.
Белугин. А и то ин подождать; дело-то у нас больно уж ровно очень несообразное затеялось... никогда и не слыхивано: такое, братец ты мой, дело!
Скопищев. А что?
Белугин. Да такое, братец ты мой, дело, что даже заверить трудно. Задумал я, братец ты мой, строиться, воображение свое то есть соблюсти... (Продолжает рассказывать шепотом.)
Налетов (очень громко). Э... однако ж я не привык так долго дожидаться... (Обращается к Забиякину.) Сделайте одолжение, доложите хоть вы князю, скажите ему, что помещик Налетов приехал.
Забиякин (с сладкою улыбкою и жмуря глаза). Извините меня, Александр Петрович, но я не имею права, я не осчастливлен доверенностью князя. (Показывает на дверь, ведущую во внутренние покои, как бы желая сказать, что он не смеет войти туда.)
Налетов. Какая это, однако ж, досада! Но скажите, пожалуйста, почему ж вы меня знаете?
Забиякин. Помилуйте-с... вы довольно по губернии известны своим просвещением.
Налетов. Э... однако ж князь, кажется, этого не знает.
Забиякин (улыбается, мотает головой и показывает на лоб). Не взыщите-с.
Налетов. Д-да? ну, это другое дело!
Входит дежурный чиновник очень смирной наружности.
Э... скажите, пожалуйста, мой любезный, скоро князь принимать будет?
Чиновник. Неизвестно-с.
Налетов. Э... в таком случае доложите, пожалуйста, князю, что помещик Налетов приехал засвидетельствовать им свое почтение... помещик Налетов.
Чиновник. Я не смею докладывать; их сиятельство завтракать изволят.
Белугин (вполголоса). Так-то вот все ест! Давеча чай с кренделями кушал, теперича завтракает, ужо, поди, за обед сядет -- только чудо, право, как и дела-то делаются!
Налетов. Э... однако ж это странно! скажите, пожалуйста, где я могу, по крайней мере, найти Леонида Сергеича Разбитного? хоть бы он объяснил князю, что я не кто-нибудь...
Белугин (тихо Скопищеву). Подождешь, брат; больно высоко крылья подымаешь!
Чиновник. Леонид Сергеич с князем кушают... прикажете сказать им?
Налетов. Да, пожалуйста. Чиновник выходит; Налетов продолжает ходить по зале в напевает вполголоса, а по временам и довольно громко, какую-то арию.
Живновский (вполголоса Забиякину). Это что за птица?
Забиякин, Налетов, Александр Петрович, здешний помещик... образованнейший.
Живновский. А, понимаю, фюрлю-мюрлю... В одном кармане пусто, в другом ни алтына, а в голове ветры северные ду...ют, гулять не пойду.
Забиякин. Нет, поручик, Александр Петрович помещик достаточный. С ними, можно сказать, все здешние власти в духовном свойстве обретаются.
Живновский. А не знаете вы, зачем он сюда приехал?
Забиякин. А, право, не могу вам доложить... Должно полагать, что по делу об умертвии черноборской мещанской девки Пучеглазовой.
Живновский. А что? видно, тово... (Делает движение рукою сверху вниз.)
Забиякин (улыбаясь). Должно быть, что не без того-с. По человечеству, знаете... А ведь прискорбно будет, поручик, если вы, с вашими познаниями, с вашими способностями, с вашим патриотизмом -- потому что порядочный человек не может не быть патриотом -- прискорбно будет, если со всем этим вы не получите себе приличного места...
Живновский. Кто? Я не получу? нет-с, уж это аттанде-с; я уж это в своей голове так решил, и следственно решения этого никто изменить не может! Да помилуйте, черта же ли ему надобно! Вы взгляните на меня! (Протягивает вперед руки, как будто держит вожжи.)
Забиякин. Да, конструкция настоящая полицейская... однако случаи бывают всякие... Вот третьего года приезжал сюда в полицеймейстеры проситься... мужчина без малого трех аршин был, даже страшно смотреть машинища какая! однако ему отказали, а дали место этому плюгавому Кранихгартену.
Живновский. Да нет! да вы поймите, ведь этого нельзя! на меня посмотреть так картина! А у этого трехаршинного, верно, изъян какой-нибудь был. (Решительным тоном.) Нельзя этого!
Забиякин. А что вы думаете? может быть, и в самом деле изъян... это бывает! Я помню, как-то из Пермской губернии проезжали здесь, мещанина показывали, с лишком трех аршин-с. Так вы не поверите... точный ребенок-с! до того уж, знаете, велик, что стоять не в силах. Постоит-постоит для примеру -- да и сядет: собственная это, знаете, тяжесть-то его так давит.
Живновский. Как же вот и не сказать тут, что природа-то все премудро устроила... вот он готов бы до небес головой-то долезти, ан ему природа говорит: "Шалишь! молода, во Саксоньи не была! изволь-ка посидеть!" Ахти-хти-хти-хти! все, видно, мы люди, все человеки!
Забиякин (крепко сжимая ему руку). Именно так, поручик, именно так! Святую вы истину сказали: все мы люди, все человеки!
Живновский. Однако ж и в самом деле сиятельный-то князь что-то долго поворачивается! У меня, значит, и в животе уж дрожки проехали -- не мешало бы, знаете, выпить и закусить... А вы, чай, с Настоем Ерофеичем тоже знакомы?
Забиякин. У нас в полку его Настасьей Ерофевной прозывали... как же-с, пью.
Живновский. Ха-ха! Настасья Ерофевна! А надо правду сказать, что наш брат военный, как уж скажет что, так именно, можно сказать, помелом причешет!
Налетов (в нетерпении останавливаясь посреди залы). Э... однако это просто, терпенья никакого недостает! быка, что ли, они там едят! Даже Разбитной не идет. (Становится против Хоробиткиной и устремляет на нее свое стеклышко. В сторону.) А недурна! есть над чем позаняться. (Вслух ей.) Э... вы, сударыня, верно, тоже с просьбой к князю?
Хоробиткина (потупляя глаза и зарумяниваясь). Точно так-с; только их сиятельство чтой-то уж очень долго держут...
Налетов. Да вы бы сели, сударыня. (Подает стул Хоробиткиной, которая жеманится.)
Живновский (Забиякину). Это значит, пошел наш сокол по клюкву по ягоду!
Хоробиткина. Помилуйте-с, вы слишком учтивы, граф!
Налетов. Это наш долг служить прекрасному полу. (Садится возле нее.) Э... а у вас, верно, какое-нибудь важное дело? Мамаша обидела? (подражая произношению маленьких детей) платьица хорошенького не купила? куколку не подарила? конфетки не дала.
Хоробиткина (рдея). Ах, какие вы насмешники! разве я маленькая, чтобы мне в куклы играть?
Налетов. Еще бы! ну, признайтесь, давно ли вы ходить начали? все, чай, "мамаса", "папаса"! Ну признайтесь!
Хоробиткина (наивничая). Помилуйте-с, как это возможно! Я уж два года замужем!
Налетов. Э... не может этого быть! вы на себя клевещете! да, впрочем, это известная замашка детей прибавлять себе лета... (Детским произношением.) Ну, пьизнайтесь, больсой оцень хоцется быть?
Живновский (Забиякину). Ишь, шельма, как тает! молодец он, а все, знаете, не то, что в наше время бывало... орлы! Налетишь, бывало, из-за сизых туч, так все эти курочки словно сожмутся, даже взглянуть не смеют: просто трепет какой-то!
СЦЕНА III
Те же и Шифель, который несколько избочившись по-камергерски и забегая вперед правою ногою, намеревается перейти через приемную комнату во внутренние покои.
Налетов (быстро устремляясь навстречу Шифелю). А! Самуил Исакович! спаситель, хоть бы вы нашему князю диету предписали! шутка ли! целых полчаса здесь изнываю, покуда его сиятельство изволит завтракать.
Шифель. Да, князь любит покушать. Знаете, mens sana in corpore sano [в здоровом теле здоровый дух (лат.)], а у кого тело в добром здоровье да совесть чиста, так желудок ужасно какую массу переваривает... а у нашего князя именно чистая совесть!
Налетов. А вы к нему?
Шифель. Нет, я к княжне: она у нас что-то прихварывает. Я и то уж сколько раз ей за это выговаривал: "Дурно, ваше сиятельство, себя ведете!", право, так и выразился, ну и она ничего, даже посмеялась со мною. Впрочем, тут наша наука недостаточна (тихо Налетову): знаете, там хоть княжна, хоть не княжна, а все без мужа скучно; (громко) таков уж закон природы.
Налетов. Не можете ли вы хоть намекнуть князю, что я его ожидаю?
Шифель. С удовольствием, отчего же! только я вам скажу, что у князя пищеварение очень, очень трудно всегда совершается!..
Налетов. Ну, хоть Разбитного. Я уже посылал за ним, да что-то нейдет.
Шифель. То есть, Леонида Сергеича, хотите вы сказать?
Налетов. Ну да.
Шифель. Так он у нас Разбитным уж не называется, а называется Леонидом Сергеичем... отношения, знаете...
Налетов. А что же такое?
Шифель (вполголоса). Он нынче доверенное лицо у князя, а особливо у княжны... знаете, после этой истории с Техоцким...
Налетов. Гм.
Шифель. То-то. Вы не вздумайте его по-прежнему, Разбитным называть... то есть вы, однако ж, не подумайте, чтоб между ним и княжной... нет! а знаете, невинные этак упражнения: он вздохнет, и она вздохнет; она скажет: "Ах, как сегодня в воздухе весной пахнет!", а он отвечает: "Да, весна обновляет человека", или что-нибудь в этом роде...
Хохочут оба.
Только вы, смотрите, не выдавайте меня!
Налетов. Помилуйте, как можно! Однако вы проказник, Самуил Исакович! (Хохочет.)
Шифель. А вы здесь, верно, по тому делу?
Налетов. Ну да, надоело уж оно мне. Да и ваше-то губернское начальство хорошо! из-за какой-нибудь девки столько embarras [шума (франц.)] подняли, точно сыр-бор загорелся!
Шифель. Шалун! а зачем же было поступать так неосторожно?.. ну, да бог милостив, как-нибудь дело устроится: князь у нас человек души необыкновенной; это, можно сказать, ангел, а не человек...
Налетов. Помогите хоть вы мне как-нибудь. Сами согласитесь, за что я тут страдаю? ну, умерла девка, ну, и похоронили ее: стоит ли из-за этого благородного человека целый год беспокоить! Ведь они меня с большого-то ума чуть-чуть под суд не отдали!
Шифель (грозя пальцем). Шалун! а что по свидетельству-то оказалось?
Налетов. Нет, позвольте, Самуил Исакович, уж если так говорить, так свидетельств было два: по одному точно что "оказалось", а по другому ровно ничего не оказалось. Так, по-моему, верить следует последнему свидетельству, во-первых, потому, что его производил человек благонамеренный, а во-вторых, потому, что и закон велит следователю действовать не в ущерб, а в пользу обвиненного... Обвинить всякого можно!
Шифель. Ну да, ну да (смеется); а скажите-ка по совести, wieviel haben sie... [сколько вы... (нем.)] за последнее-то свидетельство?
Налетов (горячась). Ну, нет, Самуил Исакович, ни-ни! Этого вы, пожалуйста, и не подозревайте! Да помогите же вы мне, мой многоуважаемый! Я вот только хотел его сиятельству почтение сделать, и от него к вам...
Шифель. А! приезжайте! Можно будет направо-налево переметнуть... ну, и поговорим. (Ухолит.)
Налетов (вслед ему). Так вы, пожалуйста, напомните князю, что я его здесь дожидаюсь. (Возвращается на свое место подле г-жи Хоробиткиной.)
СЦЕНА IV
Те же, кроме Шифеля.
Живновский (Забиякину). Кажется, нам с вами ночевать здесь придется. Проходимец должен быть этот лекаришка! И как он дал тонко почувствовать: "Ну, и поговорим!" Общиплет он этого молодчика! как вы думаете? ведь тысячкой от этого прощелыги не отделается?
Забиякин (поднимая глаза к небу). Поручик! хотите вы мне верить?
Утвердительный знак со стороны Живновского.
Так я вас честью заверяю, что если у Александра Петровича не заложено имение, то он вынужден будет заложить его в самом непродолжительном времени... верите мне?
Живновский. Отчего не верить! вы, батюшка, меня об этом спросите, как благородные люди на эти удовольствия проживаются! Я сам, да, сам, вот как вы видите!.. ну, да что об этом вспоминать... зато пожили, сударь!..
Забиякин. Оно, коли хотите, меньше и нельзя. Положим, хоть и Шифель: человек он достойный, угнетенный семейством -- ну, ему хоть три тысячи; ну, две тысячи... (Продолжает шептаться, причем считает на пальцах; по временам раздаются слова: тысяча... тысяча... тысяча.)
Белугин. Эва, брат Егор Иваныч, сколь много нынче тысяч-то развелось!
Скопищев (вздыхая). Нам, брат, с тобою не дадут!
Белугин. Ин и впрямь торговлю бросать да и в чиновники идти... оказия!
Налетов (Хоробиткиной). А скажите, пожалуйста: по вашему мнению, какое чувство выше: любовь или дружба?
Хоробиткина. А вам какое до этого дело-с?
Налетов. Да так; хотелось бы узнать, к которому из двух чувств вы склоннее?
Хоробиткина. Как же возможно сравнить-с?
Налетов. То есть, что же выше-то?
Хоробиткина. Уж разумеется, дружба-с.
Налетов. Почему же вы так полагаете?
Хоробиткина. Потому, что любовь, известно, одни пустяки-с, так, мечтанье-с.
Налетов. А мне, напротив, кажется, что дружба мечтанье, а любовь существенное.
Хоробиткина. Ах, нет-с! (Напыщенно и впадая в фистулу.) Влюбленный мужчина -- это пожар-с, друг -- это... это друг-с, одно слово! Влюбленный человек ни на какие жертвы не способен, а друг -- совсем напротив-с.
Налетов. Нет, как хотите, а любовь все-таки слаще. Конечно, дружба имеет достоинства -- этого отнять нельзя! но любовь... ах, это божественное чувство! (Хочет обнять ее, но она выскользает.)
Белугин. Ишь ты!
Семен Малявка (стоявший до сих пор смирно, вдруг начинает суетиться, махает руками и обращается скороговоркою к Долгому). Смотри, Пятруха, смотри! ишь ты! барышня-то! барышня-то! ах ты, господи! Но Долгий хранит суровое молчание, а Сыч моргает глазами
Живновский. Это, что называется, пришпорил.
Хоробиткина (обижаясь). Какой вы, однако ж, дерзкий, граф (К Малявке.) Ну, а ты, мужик, чему обрадовался?
Налетов. Ну, полноте, я это так, в порыве чувств... никак не могу совладеть с собою! Коли женщина мне нравится, я весь тут... не обижайтесь, пожалуйста, будемте говорить, как друзья... Мы ведь друзья? а?
Хоробиткина (тяжело дыша от волнения). Право, граф, я не знаю, как вам отвечать на ваши слова!.. Я бы желала знать, что они означают?
Налетов (тихо). Вы где живете, душенька?
Хоробиткина (так же и кобенясь). Я живу с мужем у Федосьи Петровны... вдова такая есть...
Налетов. Слушаю-с. (Громко.) Ну, а как полагаете, кто может сильнее чувствовать: мужчина или женщина?
Хоробиткина. Как же можно сравнить? разумеется, женщина-с!
Налетов. Почему же вы так думаете?
Хоробиткина. Потому что женщина все эти чувства бессравнительнее понимать может... ну, опять и то, что женщина, можно сказать, живет для одной любви, и кажется, нет еще той приятности, которою не пожертвовала бы женщина, которая очень сильно влюблена. (Смотрит томно на Налетова.)
Живновский. Да бабеночка-то, батюшка, хоть куда! Ишь какие турусы подпускает! Облупит она его! Шифель облупит, и она тоже маху не даст -- легок выедет молодец!
За дверью слышится шум.
Шш... кажется, сам идет... Становится в позицию; Шумилова сморкается; Забиякин закладывает одну руку за пуговицы венгерки, а в другой держит прошение, стараясь принять вид сколь можно любезный и развязный; Пафнутьев вздрагивает и подается всем корпусом вперед; Хоробиткина встает и поправляет на груди выбившийся из-под платья шнурок; купцы и пейзане переминаются и вздыхают; один Налетов, развалившись, сидит на стуле. Картина. Однако тревога оказывается фальшивою, потому что, вместо князя Чебылкина, в дверях появляется Леонид Сергеич Разбитной.
СЦЕНА V
Те же и Разбитной.
Разбитной (останавливаясь в Дверях). Кто меня здесь спрашивал?
Налетов (поспешно вставая). Ah! vous voila, enfin, chХr Леонид Сергеич! charme! charme! [А! вот вы наконец, дорогой... очень рад! очень рад! (франц.)]
Разбитной (подавая ему руку). Так это вы меня спрашивали, мсьё Налетов? А мне этот болван дежурный назвал какого-то Пролетаева! Mille pardons [Тысяча извинений (франц.)], что заставил вас дожидаться... А я был занят... у нас, знаете, князь -- пренеутомимый старикашка! все чтобы у него горело, загонял совсем!
Живновский (выступая вперед). Губерния точно что, можно сказать, обширная -- это не то что какое-нибудь немецкое княжество, где плюнул, так уж в другом царстве ногой растереть придется! Нет, тут надо-таки кой-что подумать. (Вертит пальцем по лбу.)
Разбитной (холодно осматривая Живновского, к Налетову). Ну, как у вас там, в Черноборске, поживают? Как Желваков? Маремьянкин? Добрые, преданные старики! Особливо первый!
Живновский. А позвольте узнать, об каком Желвакове изволите говорить? у нас был в полку Желваков, лихой малый, так тот, кажется, опился... Может быть, это брат его?
Разбитной (смотря на него с изумлением, в сторону). Вот пристал! (Громко.) Нет, это дедушка того Желвакова... (К Налетову.) Et voici notre existence, mon cher! tous les jours nous sommes exposХs aux sottes questions de ce tas de gens qui puent, mais qui puent... pouah! [Вот каково наше существование, дорогой мой! каждый день нас осаждает глупыми вопросами эта толпа людей, от которых воняет, так воняет... фу! (франц.)]
Живновский. Надо, надо будет скатать к старику; мы с Гордеем душа в душу жили... Однако как же это? Ведь Гордею-то нынче было бы под пятьдесят, так неужто дедушка его до сих пор на службе состоит? Ведь старику-то без малого сто лет, выходит. Впрочем, и то сказать, тогда народ-то был какой! едрёный, коренастый! не то что нынче...
Разбитной (пожимая плечами, к Налетову). Князь сейчас должен выйти: у старика, знаете, изжога сделалась -- покушать он любит, так насилу дышит...
Налетов. Какой неприятный случай!
Разбитной. А он об вас очень помнит... как же! Часто, знаете, мы сидим en petit comitХ: [в маленькой компании (франц.)] я, князь, княжна и еще кто-нибудь из преданных... и он всегда вспоминает: а помнишь ли, говорит, какие мы ананасы ели у Налетова -- ведь это, братец, чудо! а спаржа, говорит, просто непристойная!.. Препамятливый старикашка! А кстати, вы знакомы с княжной?
Налетов. Как же-с, как же-с, имел удовольствие быть ей представленным.
Разбитной. Mais n'est-ce-pas, quelle charmante petite femme?
Налетов. Oh, tout-Ю-fait charmante! [Не правда ли, какая очаровательная женщина? -- О, совершенно очаровательная! (франц.)]
Разбитной. Есть в ней, знаете, эта простота, эта мягкость манер, эта женственность, это je ne sais quoi enfin [не знаю, наконец, что (франц.)], которое может принадлежать только аристократической женщине... (Воодушевляясь.) Ну, посмотрите на других наших дам... ведь это просто совестно, ведь от них чуть-чуть не коровьим маслом воняет,.. От этого я ни в каком больше доме не бываю, кроме дома князя... Нет, как ни говорите, чистота крови -- это ничем не заменимо...
Налетов. О, кто же в этом сомневается!
Разбитной. И при всем этом доброта! Во сне даже видит своих милых бедных... Согласитесь сами, в наше время ведь это редкость!
Налетов. О, без сомнения!
Живновский (вступаясь в разговор). Вот вы изволили давеча выразиться об ананасах... Нет, вот я в Воронеже, у купца Пазухина видел яблоки -- ну, это точно что мое почтение! Клянусь честью, с вашу голову каждое будет! (Налетову.) Хотите, я семечек для вас выпишу?
Налетов пожимает плечами, а Разбитной смотрит на Живновского, так сказать, в упор.
Разбитной (к Налетову.) А вы всё по этому делу... как бишь его?..
Налетов (улыбаясь). Да, об этой девке... est-ce que Гa vaut la peine d'en parler! [разве стоит об этом говорить! (франц.)]
Разбитной. Д-да. . eh bien, mon chХr, je dois vous dire que votre cause est perdue...[так вот, дорогой мой, я должен вам сказать, что ваше дело проиграно... (франц.)] князь просто неумолим. Он у нас, знаете, преупрямый старик, lorsqu'il s'agit de ces choses [когда дело идет о подобного рода вещах... (франц.)] вы понимаете? Это очень, очень неприятно, а тем более мне, который до сих пор помнит ваш милый прием в вашем великолепном chБteau...[замке... (франц.)] (Жмет ему руку.) А скажите, пожалуйста, не имеете ли вы в виду какой-нибудь belle chБtelaine? [прекрасной хозяйки замка? (франц.)] а? ну, тогда я вам за себя не ручаюсь... les femmes, voyez-vous, c'est mon faible et mon fort en mЙme temps...[ женщины, видите ли, это в одно и то же время и моя слабость и моя сила... (франц.)] без этого я существовать не могу... будем, будем вас навещать!
Живновский (в сторону). Ну, этот сокол, кажется, еще почище будет помещика.
Налетов (сконфуженный). Очень рад, очень рад... Только как же это? вы говорите, что мое дело проиграно... стало быть, знаете... Ах, извините, мысли мои мешаются... но, воля ваша, я не могу взять этого в толк... как же это?.. да нельзя ли как-нибудь направить дело?
Разбитной. Mais je vous dis, qu'il est inХxorable...[Но я вам говорю, что он неумолим... (франц.)]
Живновский (в сторону). Облупит и этот!
Налетов. Но, скажите сами, как же я вдруг... нельзя же меня, как какого-нибудь последнего каналью... нет, это невозможно!
Разбитной. Que voulez-vous? [Что тут поделаешь? (франц.)] мы употребляли все меры... (Стучит по стене.) Вот!
Налетов. Да нет, это невозможно! Я, извините меня, не понимаю, как вы это так говорите, Леонид Сергеич! Я сам служил и, следовательно, знаю, что нет такого дела, которое нельзя бы было направить... Нет, мне самому нужно говорить с князем, он поймет... да, он поймет, что я дворянин... у него русская душа... у меня было два свидетельства... (Начинает горячиться.) Нет, вы не то чтобы не могли, вы не хотите сделать мне снисхождения! Я, наконец, малолетний был, когда это сделал, мне не было двадцати лет! я сделал это по глупости, по неопытности...
Разбитной. Ayez donc conscience, mon cher [Имейте же совесть, дорогой мой (франц.)], ведь это случилось всего полгода тому назад -- какое же тут малолетство!
Налетов (не слушая его и все более и более разгорячаясь). Наконец, это дело мне денег стоило! Я это докажу! Что ж, в самом деле, разве уж правосудия добиться нельзя!.. Это, наконец, гнусно! я жаловаться буду, я дворянин!
Живновский (Забиякину). А ведь знаете, с ним, в самом деле, свинство сделали! ну, взял -- так удовлетвори же! у-до-вле-тво-ри же, наконец! Нет, это уж, воля ваша, грабеж!
Забиякин поднимает глаза к небу.
Разбитной. Tout се que j'ai Ю vous conseiller d'abord, e'est de ne pas crier parce que les cris, voyez-vous, Гa ne vous mene a rien...[Единственное, что я могу вам прежде всего посоветовать, это не кричать, потому что крики, видите ли, ничем вам не помогут (франц.)] Будете вы у Шифеля?
Налетов (утихая). Да, буду; он звал.
Разбитной. Приходите запросто, прямо к обеду... мы, знаете, люди нецеремонные, живем по-деревенски. Там, может быть, и изыщем какие-нибудь способы... так придете?
Налетов (повеселее). Помилуйте... за величайшую для себя честь почту!
Живновский (Забиякину). Облупит он его, жестоко облупит!
Забиякин утвердительно кивает головой.
Разбитной (обращаясь к Хоробиткиной). Сударыня, позвольте узнать, в чем заключается ваша просьба? (В сторону.) А недурна, черт побери!
Хоробиткина. Помилуйте-с, я не к вам, а к его сиятельству, господину князю-с.
Разбитной. Дело в том, сударыня, что князь любит, чтобы просители излагали свое дело просто, ясно, без околичностей... Следовательно, это мой долг, моя обязанность, сударыня, опросить всех заранее, чтобы князь не затруднялся... (Скороговоркою.) Сознайтесь сами, сударыня, вы можете заикаться, у других бывает неприятная привычка жевать -- я не про вас это говорю, сударыня! Я, разумеется, по долгу службы, обязан вынести все эти неприятности, ну, а князь... Следовательно, говорю я, в подобном неприятном случае, находясь, так сказать, при самой особе князя, я могу объяснить его сиятельству...
Белугин (в сторону). Ишь как гладко расписывает!
Хоробиткина молчит.
Разбитной (любезно). Позвольте, по крайней мере, узнать ваш чин, имя и фамилию? Сделайте одолжение, вы не конфузьтесь... мы не людоеды, хотя чиновники вообще бывают мало любезны... однако мы людей не едим... (вполголоса) особенно таких хорошеньких...
Хоробиткина (опуская глаза). Жена канцеляриста, Анна Ивановна Хоробиткина.
Разбитной. Ну-с, Анна Ивановна, так в чем же состоит наша просьба?
Налетов (окончательно повеселев). Анну Ивановну мамаша обидела, им хотелось куколку, а она не купила.
Хоробиткина. Вы все смеетесь, граф.
Разбитной (к Налетову). Как, вы уж и в графы попали! вот что значит дамский кавалер! (Хоробиткиной.) Так в чем же наша просьба, любезная Анна Ивановна?
Хоробиткина. Это секрет-с... (Снова потупляет глаза.)
Разбитной. Я должен вам сказать, милая Анна Ивановна, у князя нет секретов. Наш старик любит говорить Ю c?ur ouvert... с открытым сердцем -- проклятый русский язык! (Вполголоса ей.) И притом неужели вы от меня хотите иметь секреты?
Хоробиткина. Нет-с... я не могу... я должна объясниться перед его сиятельством.
Разбитной. Отчего же перед князем, а не передо мной? поверьте, милая Анна Ивановна, что я сумею вполне оценить...
Хоробиткина. Помилуйте, как же это можно-с! Князь особы семейные-с, они понимать это могут-с...
Живновский. Ну, должна же быть просьбица!
Дежурный чиновник (стремительно вбегает). Господа, князь идет, князь идет! по местам! Повторяется та же картина, что и в предыдущей сцене. Воцаряется глубокое молчание. Входит князь, старик почтенной наружности, но вида скорее доброго, нежели умного; особенно заметно отсутствие всякой проницательности. За ним, в некотором отдалении, ковыляет Шифель.
СЦЕНА VI
Те же, князь Чебылкин и Шифель.
Князь Чебылкин (Шифелю). Так ты полагаешь, мой милый, что это у нее нервное?
Шифель (которого все туловище находится сзади князя, а голова выдалась вперед). Точно так-с, ваше сиятельство, опасного тут ничего нет; две-три пилюлечки в день, и все как рукой снимет-с.
Князь Чебылкин. Да ты у меня смотри, ты мне за нее отвечаешь.
Шифель. Только я осмелюсь доложить вашему сиятельству, что их сиятельство очень уж сильно преданы умственным упражнениям... головка у них очень занята-с...
Князь Чебылкин (улыбаясь нежно). Да; она у меня тово... не то что обыкновенная женщина...
Шифель. Как же, ваше сиятельство, можно! это и по сложению видно! У других натура крепкая, совершенно как топором вырубленная, а у их сиятельства сложеньице, можно сказать, самое легонькое, зефирное-с... Да и ткани не те-с, ваше сиятельство!
Князь Чебылкин. Так ты думаешь, что усиленные умственные упражнения ей вредны?
Шифель. Точно так-с, ваше сиятельство. Сами изволите знать, нынче весна-с, солнце греет-с... а если к этому еще головка сильно работает... Ваше сиятельство! наша наука, конечно, больше простых людей имеет в виду, но нельзя, однако ж, не согласиться, что все знаменитые практики предписывают в весеннее время моцион, моцион и моцион.
Князь Чебылкин. Н-да!
Шифель. Так, ваше сиятельство, прикажете мне теперь отправиться домой?
Князь Чебылкин (задумчиво). Н-да! ну, поезжай, поезжай! или вот что: ты уж сходи к ней, скажи, что ей моцион необходим... а то меня-то она, пожалуй, не послушается... Скажи ей, что я сам с ней пойду пройтись...
Шифель. Слушаю-с. (В сторону.) Ах, чтоб тебя черт побрал, безголовый старикашка! (Уходит.)
СЦЕНА VII
Те же, кроме Шифеля.
Налетов (любезно расшаркиваясь перед князем и округляя свои руки). Ваше сиятельство... mon prince...[князь (франц.)] очень счастлив, что имею честь засвидетельствовать вам свое почтение. (Князь не может припомнить.) Налетов, черноборский помещик... прошлое лето изволили еще осчастливить своим посещением...
Разбитной (следующий за князем шаг за шагом). Ананасы большие, ваше сиятельство!
Князь Чебылкин. Ах, да! очень рад, очень рад! прекрасные, отличные ананасы... где бишь мы их ели?
Разбитной. У господина Налетова, князь; вот он стоит перед вами.
Князь Чебылкин. Ах, да! charme! [очень рад! (франц.)] Налетов! скажите, пожалуйста, знакомая что-то фамилия... Кажется, что-то было?
Налетов раскрывает рот, но Разбитной делает ему жест.
Разбитной! mon cher, не помнишь ли ты?
Разбитной. Никак нет, князь; такого дела у нас никогда не бывало... по крайней мере, я не припомню.
Белугин (в сторону). Когда, чай, припомнить... стрекулисты вы этакие!
Князь Чебылкин. Ну, в таком случае очень рад, очень рад познакомиться с образованным человеком... Ба! да, помнится, я уж знаком с вами! еще ананасы такие прекрасные?
Разбитной (в сторону). Ах ты, господи! (Громко.) Да это тот самый Налетов и есть, князь...
Князь Чебылкин. А! ну, очень хорошо! прошу обедать! княжна будет очень рада... elle s'ennuie, la pauvre enfant! [она скучает, бедное дитя! (франц.)]
Налетов. Не позволите ли, mon prince, мне теперь же засвидетельствовать почтение княжне?
Князь Чебылкин. Что ж, очень рад! она, кажется, принимает! а меня уж извините, у меня есть священные обязанности! Очень рад. Налетов уходит.
СЦЕНА VIII
Те же, кроме Налетова.
Князь Чебылкин. А кажется, он порядочный молодой человек! и смирный! Нынче молодые люди всё дерзкие, вольнодумцы... а этот, как бишь его?
Разбитной. Налетов, князь.
Князь Чебылкин. Ну, да, Налетов... он, кажется, смирный?
Разбитной. Отличный молодой человек, князь. И в каком порядке у него имение!
Князь Чебылкин. А! в порядке! Ну, это хорошо! порядок во всяком устроенном обществе главное; потому-то такие общества и называются благоустроенными... (Вздыхает. Подходя к Хоробиткиной.) Ну, сударыня, что вам угодно?
Хоробиткина (исполняясь возвышенными чувствами). Князь, я пришла просить вашей защиты! Если вы не защитите меня, то я погибшая женщина! Князь Чебылкин (Разбитному). Qu'est-ce qu'elle dit donс, qu'est-ce qu'elle dit? est-ce que e'est une femme perdue, par exemple? [Что такое она говорит, что она говорит? это погибшая женщина, что ли? {франц.)]
Разбитной. Она говорит, что ее обижают, князь, что она погибнет, если вы ее не защитите. (К Хоробиткиной.) Извольте объяснить ваше дело просто, ясно, без околичностей.
Князь Чебылкин. Ну-с, сударыня?
Хоробиткина. Муж мой, канцелярский чиновник Хоробиткин, имеющий счастье служить под высоким начальством вашего сиятельства, поступает со мной... (Останавливается.)
Живновский (тихо Забиякину). Каково баба-то режет! а! хоть бы нашему брату так объясниться!
Князь Чебылкин. Уховерткин! я что-то такого не помню. Продолжайте, сударыня.
Хоробиткина (потупляя глаза). Позвольте, князь, просить у вас секретного разговора-с...
Князь Чебылкин (Разбитному). Qu'est-ce qu'elle a donc, cette femme?
Разбитной. Elle vous demande un entretien particulier [Что ей надо, этой женщине? -- Она просит у вас секретного разговора (франц.)].
Князь Чебылкин. Зачем же, душенька, нам секретничать? У меня, душенька, секретов нет с просителями... и я, наконец, не вижу никакой надобности... и зачем вы, душенька, так оделись? вам, должно быть, холодно?
Хоробиткина. Ваше сиятельство! я не могу! я не могу изъявить перед целым светом мой стыд... потому что я опозорена, ваше сиятельство, я несчастнейшая из женщин!
Князь Чебылкин. В чем же дело, сударыня?
Хоробиткина. Ваше сиятельство! довольно, если я вам осмелюсь доложить, что муж мой... но нет-с, я не могу это выговорить-с.
Живновский (вполголоса Забиякину). А! понимаю! стало быть... (Шепчет Забиякину на ухо.)
Пафнутьев, прислушивавшийся к их разговору, неожиданно фыркает; князь обращает взоры в ту сторону.
Князь Чебылкин. Кажется, кто-то из вас, господа, забывает, что просителю следует вести себя скромно. (К Хоробиткиной.) Что ж такое делает муж ваш, сударыня?
Пафнутьев опять фыркает.
Господа, я должен буду приказать вывести нарушителей тишины!.. Продолжайте, сударыня.
Хоробиткина. Нет, князь, вы защитите меня! вы позвольте мне объясниться перед вами секретно.
Князь Чебылкин. Извольте, сударыня, извольте. Снисходя на вашу просьбу, я согласен вас выслушать. Я не могу потакать злоупотреблениям, даже супружеским, я люблю правду... (Усилив голос.) Я вас выслушаю, сударыня, приходите завтра утром. (Хоробиткина приседает. Князь обращается к вдове Шумиловой.) Ну-с, а вы, сударыня?
Шумилова (внезапно заливается целым потоком слез; прерывающимся голосом). Вдова, батюшка, ваше сиятельство, вдова, коллежская секретарша Шумилова... защитите вы нас, бедных сирот...
Князь Чебылкин (Разбитному). Je crois que c'est du ressort de la princesse? [По-моему, это относится к ведению княжны? (франц.)]
Разбитной. Вы о пособии, что ли, просите?
Шумилова. Ой, батюшка, ваше благородие...
Разбитной. Обращайтесь к князю, сударыня.
Шумилова. Батюшка, ваше сиятельство! хорошо, кабы пособие-то... да нет уж моей моченьки, ваше сиятельство! Сироты больно одолели... Моченьки-то моей нет!
Князь Чебылкин. Что ж вам угодно, сударыня?
Шумилова. Да я насчет дому-то... домишко, ваше сиятельство, старый... так, развалящий от покойника остался. Ну, вот только приходят вчерась землемеры... (Заливается.) Тут, говорит, какую-то линию вести надо... ой, батюшки!
Князь Чебылкин. Землемеры, сударыня... это следует по закону... (Разбитному.) Expliquez-lui [Объясните ей (франц.)].
Разбитной. Ваш дом, верно, не на месте стоит, сударыня?
Шумилова. Как не на месте! На месте, ваше сиятельство, на земле стоит... и дедушки и прадедушки наши так владели... как не на месте!
Разбитной. То есть, я хотел сказать, что ваш дом не на плановом месте выстроен?
Шумилова. Помилуйте, ваше благородие...
Разбитной. Обращайтесь к князю, вам говорят.
Шумилова. Помилуйте, ваше сиятельство, ведь еще наши дедушки дом-от строили... как не на месте?
Разбитной. Стало быть, не на месте, если землемеры говорят, что через него линию вести надобно.
Шумилова. Помилуйте, ваше благ... ваше сиятельство, да как же это возможно, чтоб через живого человека линию вести... просто зубоскалят они... два рублика серебром просят... (Заливается.)
Разбитной. Она ничего не понимает, ваше сиятельство.
Князь Чебылкин (строго). Не хорошо, сударыня, не хорошо! Прежде нежели решаться утруждать начальство, надо вникнуть в предмет... не хорошо-с... (Переходит мимо купцов и крестьян на другую сторону зала, где стоят благородные просители. Купцы и крестьяне вздыхают.)
Шумилова (плача). Господи! что ж это такое с нами будет!
Живновский (не переводя духа и без знаков препинания). Ваше сиятельство! наслышавшись столько о необыкновенных качествах души вашего сиятельства и имея твердое намерение по мере моих сил и способностей быть полезным престол-отечеству я не смел бы утруждать ваше сиятельство моею покорнейшею просьбой если б не имел полной надежды оправдать лестное ваше для меня доверие. (Переводя дух.) Проходя службу два года и три месяца в Белобородовском гусарском полку в чине корнета уволен из оного по домашним обстоятельствам и смерти единственной родительницы в чине подпоручика и скитаясь после того как птица небесная где день где ночь возымел желание отдохнуть в трудах служебных... (Выставляет ногу вперед и начинает декламировать.) Ваше сиятельство! благородной душе вашей будет понятна жажда деятельности, согревающая душу благородного дворянина! Вы сами дворянин, ваше сиятельство! вы, следовательно, сами изволите понять, сколь великие обязанности возложены самою природою на это сословие! Будучи дворянином, нельзя не служить! Скажу более: не служить, будучи дворянином, -- это величайшая, постыднейшая неблагодарность против престол-отечества.
Князь Чебылкин (Разбитному). Mais il nest pas bЙte cet homme! [А он не глуп, этот человек! (франц.)] (Живновскому.) Отчего же вы так долго собирались вступить на службу?
Живновский Ваше сиятельство! заблудшая овца, и в писании сказано, дороже...
Князь Чебылкин. То есть кающаяся, хотите вы сказать?
Живновский. Точно так, ваше сиятельство!
Князь Чебылкин. Очень рад, очень рад, мне люди нужны, я ищу людей...
Живновский. Ради стараться, ваше сиятельство!
Князь Чебылкин. Очень рад, очень рад. Подайте просьбу.
Живновский (вынимая сложенную бумагу, торчавшую между расстегнутых пуговиц сюртука). Позвольте вручить, ваше сиятельство!
Князь берет и хочет удалиться.
Разбитной (смотря проницательно на Живновского). Позвольте, ваше сиятельство! Господин Живновский, вы бывали под судом?
Живновский (смущаясь). Как под судом?
Разбитной. Ну да, под судом, под уголовным судом, обыкновенно какой суд бывает!
Живновский. Был-с.
Разбитной. Бывших под судом дозволяется определять только под личною ответственностью, князь.
Князь Чебылкин (Живновскому). Как же вы, любезный друг, идете просить места? Ведь вы знаете закон? Нет, вы мне скажите, знаете ли вы закон?
Живновский. Помилуйте, ваше сиятельство, если б вам известно было, за какие дела я под судом находился -- самые пустяки-с! Можно сказать, вследствие благородства своих чувств, как не могу стерпеть, чтоб мне кто-нибудь на ногу наступил...
Князь Чебылкин. Вот видите, любезный друг, стало быть, в вас строптивость есть, а в службе первое дело дисциплина! Очень жаль, очень жаль, мой любезный, а вы мне по наружности понравились...
Живновский. Да помилуйте же, ваше сиятельство!
Князь Чебылкин. Нельзя, любезный друг, нельзя. (Подходит к Забиякину. Сухо.) Ну, вы с чем еще?
Живновский (в сторону). Не вывезла кривая! (Задумывается и, опустивши голову, начинает кусать усы.)
Забиякин. Я, ваше сиятельство, о личной обиде.
Разбитной. На это полицеймейстер есть, князь.
Князь Чебылкин. Ну да, полицеймейстер... обратитесь к нему, он вас разберет. (Хочет удалиться.)
Забияки н. Князь, позвольте! князь! и без того я угнетен уже судьбою! и без того я, так сказать, уподобился червю, которого может всякая хищная птица клевать... конечно, против обстоятельств спорить нельзя, потому что и Даниил был ввержен в ров львиный, но ведь я погибаю, князь, я погибаю!
Разбитной. Ну, вас и спасет полицеймейстер!
Живновский (в сторону, задумчиво.) Ведь тысячи полторы верст откатал, черт возьми!
Забиякин. Ваше сиятельство изволите говорить: полицеймейстер! Но неужели же я до такой степени незнаком с законами, что осмелился бы утруждать вас, не обращавшись прежде с покорнейшею моею просьбой к господину полицеймейстеру! Но он не внял моему голосу, князь, он не внял голосу оскорбленной души дворянина... Я старый слуга отечества, князь; я, может быть, несколько резок в моей откровенности, князь, а потому не имею счастия нравиться господину Кранихгартену... я не имею утонченных манер, князь...
Князь Чебылкин (нетерпеливо). К делу, сударь, к делу.
Забиякин. Вчерашнего числа, в третьем часу пополудни, шедши я с отставными чиновниками: Павлом Иванычем Техоцким и Дмитрием Николаичем Подгоняйчиковым по Миллионной улице для прогулки, встретили мы сосланного сюда под надзор на жительство за обманы и мошенничество, еврея Гиршеля. Как перед богом, так и перед вашим сиятельством объясняюсь, что ни я, ни товарищи мои не подали к тому ни малейшего повода, потому что мы шли, разговаривая тихим манером, как приличествует мирным гражданам, любящим свое отечество... Но Гиршель, проходя мимо, не внял долгу совести и словам закона, повелевающего оставлять мирным гражданам беспрепятственно предаваться невинным занятиям, и, тая на меня злобу, посмотрел на нашу сторону и презрительно улыбнулся. Конечно, князь, другой на моем месте, как благородный человек, произвел бы тут дебоширство, но я усмирил волнение негодующего сердца и положил всю надежду на бога... Одним словом, князь, я, как благородный человек, только засвидетельствовал дерзость презренного еврея и...
Разбитной. Ну, вот видите, о каких пустяках вы утруждаете его сиятельство!
Князь Чебылкин (Разбитному). Calmez-vous, mon cher, calmez-vous... lorsqu'on est haut placХ, il faut bien boire le calice...[Успокойтесь, дорогой мой, успокойтесь... занимающему высокий пост приходится пить свою чашу. (франц.)]
Забиякин. Вот вы изволите говорить, Леонид Сергеич, что это пустяки... Конечно, для вас это вещь не важная! вы в счастье, Леонид Сергеич, вы в почестях! но у меня осталось только одно достояние -- это честь моя! Неужели же и ее, неужели же и ее хотят у меня отнять! О, это было бы так больно, так грустно думать!
Разбитной. Пожалуйста, объясняйте князю, не впутывая посторонних обстоятельств!
Забиякин. Это не постороннее обстоятельство, Леонид Сергеич... (Строго и закусывая нижнюю губу, как бы желая удержать рыдания.) Это... честь моя!
Князь Чебылкин. Дальше, сударь, дальше!
Забиякин. Засвидетельствовав, как я сказал, нанесенное мне оскорбление, я пошел к господину полицеймейстеру... Верьте, князь, что не будь я дворянин, не будь я, можно сказать, связан этим званием, я презрел бы все это... Но, как дворянин, я не принадлежу себе и в нанесенном мне оскорблении вижу оскорбление благородного сословия, к которому имею счастие принадлежать! Я слишком хорошо помню стихи старика Державина:
Собой пример он должен дать,
Что звание его священно...
И что ж? господин Кранихгартен не только не принял моей просьбы, но меня же еще осмелился назвать шаверой.
Князь Чебылкин. У вас это, вероятно, все на бумаге написано?
Забиякин. Как же-с, ваше сиятельство... (Подает прошение.)
Князь Чебылкин. Разберем, сударь, разберем. (Передает бумагу Разбитному. Подходя к Пафнутьеву.) А! почтенный ветеран!
Но Пафнутьев, к общему удивлению, вероятно, вспомнив о госпоже Хоробиткиной и ее муже, вместо объяснения своего дела внезапно фыркает.
Милостивый государь! вы, кажется, забыли, где вы находитесь? (Вырывает из рук его просьбу и отдает ее Разбитному.) Извольте, сударь, идти! (Пафнутьев уходит; князь вслед ему.) Вы где потеряли руку?
Пафнутьев останавливается, но вместо ответа опять фыркает.
Вон!
Живновский. Смешливый час нашел-с!
Князь Чебылкин (Разбитному.) Подите, mon cher, узнайте, где этот почтенный ветеран руку потерял. (Разбитной выходит. К Белугину.) Ну, ты что?
Белугин. А вот, ваше сиятельство, такое у нас случилось дело, что даже не привидано...
Разбитной (возвращаясь). На охоте с лошади упал, князь!
Общий смех.
Белугин. Затеял я этта, ваше сиятельство, строиться. Что ж, думаю, и в городу украшение, ну, и нам тоже с старухой поваляться где будет... палаты затеяли каменные-с, и плант свой преставили... Только вот, сударь, чудо какое у нас тут вышло: чиновник тут -- искусственник, что ли, он прозывается -- "плант, говорит, у тебя не как следственно ему быть надлежит", -- "А как, мол, сударь, по-вашему будет?" -- "А вот, говорит, как: тут у тебя, говорит, примерно, зал состоит, так тут, выходит, следует... с позволенья сказать..." И так, сударь, весь плант сконфузил, что просто выходит, жить невозможно будет.
Князь Чебылкин. Как же это? я что-то не понимаю...
Белугин. Да и мы, ваше сиятельство, пытались об этом толковать... просто умопостиженье выходит!
Разбитной. Сколько я могу понимать, князь, его план составлен несогласно с правилами по искусственной части...
Белугин. И он то же говорил, чиновник-то! да помилосердуйте же, батюшки вы наши! ведь это, значит, жить невозможно будет... я материялы припас...
Князь Чебылкин (Разбитному). Expliquez-lui! [Объясните ему (франц.)]
Разбитной. Если тебе архитектор сказал, что план твой сделан не по правилам, стало быть, надо сделать другой план.
Белугин. Помилосердуйте, ваше сиятельство!
Князь Чебылкин. Нельзя, любезный, нельзя... ты слышал, закона нет! (Подходит к Скопищеву.) Ты зачем?
Белугин (в сторону). Вот тебе и резолюция!
Скопищев (вздыхает). Я все насчет того дела...
Князь Чебылкин. Нельзя, братец, нельзя...
Скопищев (вздыхает). Ох, я бы еще полтинничек спустил.
Князь Чебылкин. Нельзя, любезный друг; закон прямо говорит... нельзя!
Скопищев. Для нас бы подряд-то этот уж оченно сподручен.
Разбитной. Русский человек, князь, задним умом крепок.
Скопищев (вздыхая). Кто ж его душу знал, что он после торгов станет... Я бы, ваше сиятельство, и еще полтинничек скинул...
Разбитной. Ваше сиятельство! с ним говорить -- только время тратить.
Скопищев вздыхает. Разбитной подходит к Долгому; князь беспрекословно следует за ним.
Князь Чебылкин. Ну, ты что?
Долгий (мрачно и отрывисто). Писарь дерется, ваше благородие.
Князь Чебылкин. Ну, так что ж? стало быть, ты стоишь этого, любезный друг.
Долгий. Стою не стою, а в законах того не написано, чтобы драться.
Князь Чебылкин. За что ж он, любезный? (К Разбитному). Nous allons rire...[Мы сейчас посмеемся... (франц.)]
Долгий. А вот за что! Идем мы, слышь ты, этта с Обрамом, по улице... ну, ничего! Только идем мы это, и начал меня вдруг Обрам обзывать: и такой-то ты и сякой-то ты... Только я ему говорю: Обрам, мол, Сергеич, за что, мол, вы меня обзываете? А он меня по зубам: я, говорит, что хочу, над тобой изделаю... Только я от него побег к писарю: "Иван Павлыч, говорю, за что, мол, Обрам Сергеич меня искровенил?" А писарь-то -- уж почудилось ему, что ли, что-нибудь! -- как размахнется, да и ну меня по зубам лущить... Так что ж это у нас за порядки будут!
Разбитной. Что ж ты не жаловался по начальству?
Долгий. А кому жалиться-то? Уж сделайте ваше распоряжение, прикажите мне Обрамке сдачи дать.
Князь Чебылкин. Хорошо, любезный, хорошо; мы обсудим! (Подходит к Малявке.) Ну, ты?
Малявка. А я, ваше сиятельство, об корове (вздыхает)... Была, то есть, у нас буренькая коровушка, такая ли, слышь, гладкая да смирная...
Разбитной. Объясняй без околичностей.
Малявка. Ну! вот я и говорю, то есть, хозяйке-то своей: "Смотри, мол, Матренушка, какая у нас буренушка-то гладкая стала!" Ну, и ничего опять, на том и стали, что больно уж коровушка-то хороша. Только на другой же день забегает к нам это сотский. "Ступай, говорит, Семен: барин [В некоторых губерниях крестьяне называют станового пристава барином. (Прим. Салтыкова-Щедрина.)] на стан требует". Ну, мы еще и в ту пору с хозяйкой маленько посумнились: "Пошто, мол, становому на стан меня требовать!.."
Князь Чебылкин. Да ты любезный, не мажь...
Малявка. Только прихожу я это на стан, а барин в ту пору и зачал мне говорить: "Семенушка, говорит, коровника у тебя моей супружнице оченно понравилась, так вот, говорит, тебе целковый, будто на пенное; приводи, говорит, коровушку завтра на стан..."
За дверьми слышится шум и раздаются голоса. Входят: княжна,
Шифель и Налетов; Живновский и Забиякин стараются принять грациозные позы.
СЦЕНА IX
Те же, княжна, Шифель и Налетов.
Налетов. Vous me permettrez de vous accompagner, princesse?
Княжна. Mais oui... [Вы позволите мне сопровождать вас, княжна? -- Пожалуйста (франц.)] ПапЮ, скоро?
Князь Чебылкин. Сейчас, ma chere, сейчас кончим.
Налетов вставляет стеклышко и смотрит гордо на просителей.
Малявка. Только я ему говорю: помилосердуйте, мол, Яков Николаич, как же, мол, это возможно за целковый коровушку продать! у нас, мол, только и радости! Ну, он тутотка тольки посмеялся: "ладно", говорит... А на другой, сударь, день и увели нашу коровушку на стан. (Плачет.)
Княжна (томно) Pauvres gens! [Бедные люди! (франц.)]
Князь Чебылкин. Хорошо, любезный, не плачь! твоя корова будет тебе возвращена!
Княжна (подбегая к князю). Папа, сделаем подписку в пользу этого бедного семейства.
Налетов. Quel c?ur! [Какое сердце! (франц.)]
Князь Чебылкин. Хорошо, хорошо, моя Антигона! бери его в свое распоряжение... Тут есть еще бедная женщина. (Показывает Шумилову.)
Малявка (внезапно повеселев). Когда ж за деньгами-то приходить нужно?
Княжна. Quelle naivete! [Какая простота! (франц.)]
Князь Чебылкин (подходя к Сычу). Ты зачем?
Сыч, однако ж, продолжает упорно молчать.
Ты говори, любезный, не бойся! ты представь себе, что перед тобою не князь, а твой добрый староста...
Шифель. Ангел, а не человек!
Князь Чебылкин. Говори же, мой друг!
Сыч, однако ж, продолжает упорно молчать.
Разбитной. Говори же, любезный! Малявка (толкая Сыча в бок). Сказывай же, сказывай, дядя Лексей!
Все усилия остаются тщетными.
Князь Чебылкин (Разбитному). Велите его расспросить там. (К просителям.) Прощайте, господа!.. Ну, кажется, теперь я всех удовлетворил!
Занавес опускается.
ВЫГОДНАЯ ЖЕНИТЬБА
СЦЕНА I
Театр представляет комнату весьма бедную; по стенам поставлено несколько стульев под красное дерево, с подушками, обтянутыми простым холстом. В простенке, между двумя окнами, стол, на котором разбросаны бумаги. У одной стены неубранная кровать. Вообще, убранство и порядок комнаты обнаруживают в жильце ее отсутствие всякого стремленья к чистоте и опрятности.
Дернов. Долго-таки заставил он меня дожидаться: с час времени проморил в передней. Потом выходит, да без парика и без зубов, в какой-то полосатой поддевочке -- и не узнал я его совсем. "Ну что ж, говорит, жениться, что ли, хочешь?" -- "Точно так-с, говорю я, коли будет от вашего высокородия милость, разрешите". А он мне: "У меня, братец, на этот счет своя идея есть: вам, подьячим, без крайней надобности жениться не следует". -- "Сделайте, говорю, ваше высокородие такую милость! кабы не крайность моя, я бы и утруждать не осмелился". -- "А что за невестой дают?" -- "Пять платьев да два монто, одно летнее, другое зимнее; из белья тоже все как следует; самовар-с; нас с женой на свой кошт год содержать будут, ну и мне тоже пару фрашную, да пару сертушную". -- "А из денег: ничего?" -- "Ничего", говорю. -- "Ну, так и нет тебе разрешенья; вы, говорит, подьячие, все таковы: чуть попал в столоначальники, уж и норовит икру метать. Вашего крапивного семени столько развелось, что деваться некуда". Я было рот разинул, чтоб еще попросить, так куда тебе: повернул спину, да и был таков.
Гирбасов. Что ж ты намерен теперь с этим делать, Саша?
Дернов. А уж, право, и сам не знаю. Пойду завтра к Порфирию Петровичу, паду им в ноги; пусть что хотят со мной делают, а без женитьбы мне невозможно.
Гирбасов. Да, без жены какая же и жизнь!
Несколько секунд молчания.
Дернов. Ты посуди сам: ведь я у них без малого целый месяц всем как есть продовольствуюсь: и обед, и чай, и ужин -- все от них; намеднись вот на жилетку подарили, а меня угоразди нелегкая ее щами залить; к свадьбе тоже все приготовили и сукна купили -- не продавать же. На той неделе и то Вера Панкратьевна, старуха-то, говорит: "Ты у меня смотри, Александра Александрыч, на попятный не вздумай; я, говорит, такой счет в правленье представлю, что угоришь!" Вот оно и выходит, что теперича все одно: женись -- от начальства на тебя злоба, из службы, пожалуй, выгонят; не женись -- в долгу неоплатном будешь, кажный обед из тебя тремя обедами выйдет, да чего и во сне-то не видал, пожалуй, в счет понапишут. Нет, уж воля начальства, а не жениться мне никак нельзя -- все одно что в петлю лезть.
Гирбасов. Ну, а у Якова Астафьича был?
Дернов. Был.
Гирбасов. Что ж он?
Дернов. Да что он! мычит, да и все тут. Я ему говорю: "Помилуйте, Яков Астафьич, ведь вы мои прямые начальники". -- "И, братец! говорит: какой я начальник!.." Такая, право, слякоть!
Молчание.
И ведь все-то он этак! Там ошибка какая ни на есть выдет: справка неполна, или законов нет приличных -- ругают тебя, ругают, -- кажется, и жизни не рад; а он туда же, в отделение из присутствия выдет да тоже начнет тебе надоедать: "Вот, говорит, всё-то вы меня под неприятности подводите". Даже тошно смотреть на него. А станешь ему, с досады, говорить: что же, мол, вы сами-то, Яков Астафьич, не смотрите? -- "Да где уж мне! -- говорит, -- я, говорит, человек старый, слабый!" Вот и поди с ним!
Гирбасов. Да, уж с этаким начальником маяться не дай господи! Вот и у нас председатель такой был; сядет, бывало, в карты играть -- ступить не умеет. С короля козырять начнет, а у партенера туз-от бланк -- вот и взъестся на него партнер, особливо если Порфирий Петрович. "Вы, говорит, ваше превосходительство, в карты лапти изволите плесть; где ж это видано, чтоб с короля козырять, когда у меня туз один!" А он только ежится да приговаривает: "А почем же я знал!" А что тут "почем знал", когда всякому видимо, как Порфирий Петрович с самого начала покрякивал в знак одиночества... Ну, а кто у тебя в посажёных будет?
Дернов. А, право, не знаю. Вот старуха говорят, чтоб, по крайности, Якова Астафьича. Оно, коли хочешь, и дело, потому что он все-таки прямой начальник; ну, а знаешь ты сам, как он в ту пору Чернищеву отвечал, как тот его к своей дочери в посажёные звал? "Я, говорит, человек не общественный, дикий, словесности не имею, ни у кого не бываю; деньги у меня, конечно, есть, да ведь это на черный день -- было бы с чем и глаза закрыть. Вот, говорит, намеднись сестра пишет, корова там у нее пала -- пять целковых послал; там брат, что в священниках, погорел -- тому двадцать пять послал; нет, нет, брат, лучше и не проси!" С тем Чернищев-то и отъехал. Одно слово, дрянь -- дрянь и есть. Господи! у других начальники как начальники, а у нас, что называется, ни кожи, ни рожи. Я уж удумал к Порфирию Петровичу.
Гирбасов. А не пойдет Порфирий Петрович -- градского голову за бока тащи!
Дернов. И то правда. Да что, брат! нонче уж и они рыло воротить стали. Только слава, что столоначальники, а хошь бы одна-те свинья головой сахару поклонилась; нас, мол, Федор Гарасимыч защитит, он наш по всей губернии купечеству сродственник и благо-приятель. Намеднись к откупщику посылал, чтоб, по крайности, хошь ведро водки отпустил, так куда тебе: "У нас, говорит, до правленья и касательства никакого нет, а вот, говорит, разве бутылку пива на бедность"... Такая, право, бестия! Не знаешь, как тут и быть -- такие времена настали. Начальство не то чтоб тебя защитить, а еще пуще крапивным семенем обзывает, жалованье на сапоги все изведешь, а работы-то словно на каторге. Уж и подлинно, должно быть, вac ровно блох развелось. Выгоняют-выгоняют нашего брата, выгоняют, кажется, так, что и места нигде не найдешь, а смотришь: все-таки место свято пусто не будет; куда! на одно-то место человек двадцать лезет.
Гирбасов. Да, большую ловкость нужно иметь, чтоб нонче нашему брату на свете век изжить. В старые годы этой эквилибристики-то и знать не хотели.
Дернов. Вот хоть бы про столоначальника! Ты думаешь, задаром мне это место досталось? как бы не так! Иду я это к секретарю, говорю ему: "Иван Никитич! состоя на службе пятнадцать лет, я хоша не имею ни жены, ни детей, но будучи, так сказать, обуреваем... осмеливаюсь"... ну, и так далее. А он, ты думаешь, что мне в ответ? ты! говорит, да я! говорит... Прослезился я, да так и ушел от него, по той причине, что он был на ту пору в подпитии, -- ну, а в этом виде от него никаких резонов, окроме ругательства, не услышишь. Вот выбрал я другой день, опять иду к нему. "Иван Никитич, -- говорю ему, -- имейте сердоболие, ведь я уж десять лет в помощниках изнываю; сами изволите знать, один столом заправляю; поощрите!" А он: "Это, говорит, ничего не значит десять лет; и еще десять лет просидишь, и все ничего не значит". -- "Да что ж, говорю я, надобно сделать, я на все готов". -- "А знаешь ли ты, говорит, эквилибристику?" -- "Нет, мол, Иван Никитич, не обучался я этим наукам: сами изволите знать, что я по третьему разряду". -- "А эквилибристика, говорит, вот какая наука, чтоб перед начальником всегда в струне ходить, чтобы ноги у тебя были не усталые, чтоб когда начальство тебе говорит: "Кривляйся, Сашка!" -- ну, и кривляйся! а "сиди, Сашка, смирно" -- ну, смирно и сиди, ни единым суставом не шевели, а то неравно у начальства головка заболит. Я, говорит, всю эту механику насквозь произошел, так и знаю. Да и считай ты себя еще счастливым, коли тебе говорят: "Кривляйся!" Это значит, внимание на тебя обращают. Вот и выходит, значит, что кривляк этих столько развелось, что и для того, чтоб подличать-то тебе позволили, нужен случай, протекция нужна; другой и рад бы, да случая нет.
Гирбасов. А умный человек этот Иван Никитич, хошь и шельма.
Дернов. Да ты слушай. Высказал он мне все это, да и смотрит прямо в глаза, точно совесть наизнанку выворотить хочет. Вот и поклялся я ему быть в повиновении; и мучил же он меня, мучил до тех пор, пока его самого, собаку, за нетрезвое поведенье из службы не выгнали -- чтоб ему пусто было! Напьется, бывало, пьян, да и посылает за мной. "Пляши, говорит, Сашка", или "пой, говорит, Сашка, песни". Делать-то нечего: и пляшешь и поешь, а он-то, со своей развратной компанией, над тобой безобразничает. Однажды растворил это двери на балкон, а жил во втором этаже. "Скачи", -- говорит. Я на колени было, так куда? "Скачи, говорит, а не то убью". А глаза-то у него, как у быка, кровью налились -- красные-раскрасные. Делать нечего, спрыгнул я, да счастье еще, что в ту пору грязь была, так тем и отделался, что весь как чушка выпачкался. Так вот, брат, какие труды понес! А говорят еще: счастье; без году неделю, мол, служит, а уж столоначальник!
Гирбасов. Это точно, что бестия был этот Иван Никитич: никакого человечества в нем не было. И ведь диво! кажется, сам через все это прискорбие произошел; сам, значит, знает, каково выносить эту эквилибристику-то.
Дернов. То-то вот и есть, что наш брат хам уж от природы таков: сперва над ним глумятся, а потом, как выдет на ровную-то дорогу, ну и норовит все на других выместить. Я, говорит, плясал, ну, пляши же теперь ты, а мы, мол, вот посидим, да поглядим, да рюмочку выкушаем, покедова ты там штуки разные выкидывать будешь.
Входит сторож.
Сторож. Господин Дернов, извольте идти к его высокородию.
Дернов. А зачем?
Сторож. А мне почем знать.
Дернов. Да кто-нибудь есть у него?
Сторож. Была ихняя экономка, а потом старик со старухой приходили, с ними девка была, дочь, что ли, -- кто их знает?
Дернов. А зачем приходили -- не знаешь?
Сторож. А господь их знает!
Дернов. Ну, а каков он-то?
Сторож. Известно, ругается.
Гирбасов (Дернову). Однако ж прощай; забеги-ка к нам завтра, расскажи, как у вас там все будет; а Раиса Петровна водочки поднесет -- у нас, брат, некупленая.
Дернов. Да, я и позабыл спросить тебя про Раису Петровну, как оне себя чувствуют?
Гирбасов. Уж известно, какие у ней чувства; у меня эти чувства-то вот где сидят (показывает на затылок). Что ни девять месяцев -- смотришь, ан и пищит в углу благословение божие, словно уж предопределение али поветрие какое. Хочешь не хочешь, а не отвертишься.
Выходят.
СЦЕНА II
Театр представляет комнату с претензиями на великолепие. Мебель уставлена симметрически; посредине диван, перед ним стол и по бокам кресла; диван и кресла крыты ярко-голубым штофом, но спинки у них обтянуты коленкором под цвет. В простенках, между окнами, зеркала, на столах недорогая бронза: лампы, подсвечники и проч. Петр Петрович Змеищев, старик лет шестидесяти, в завитом парике и с полною челюстью зубов, как у щуки, сидит на диване; сбоку, на втором кресле, на самом его кончике, обитает Федор Герасимыч Крестовоздвиженский. Проникнутый глубоким умилением по случаю беседы с Петром Петровичем, Крестовоздвиженский обнаруживает сильное беспокойство во всех оконечностях своего бренного тела, беспрестанно привскакивает и потягивает носом воздух.
Крестовоздвиженский. Осмелюсь уверить ваше высокородие, самый то есть пустейший он человек, просто именно пустейший человек-с!
Змеищев (зевая). Ну, а коли так, разумеется, что ж нам смотреть на него, выгнать, да и дело с концом. Вам, господа, они ближе известны, а мое мнение такое, что казнить никогда не лишнее; по крайней мере, другим пример. Что, он смертоубийство, кажется, скрыл?
Крестовоздвиженский. Никак нет-с, смертоубивство -- это другой, это Гранилкин-с. А Овчинину было предписано исполнить приговор над одним там мещанином, розгами высечь-с, так он, вместо того мещанина, высек просто именно совсем другого. Оно, конечно, он оправдывается тем, что по ошибке, потому, дескать, что фамилии их сходные, и призванный, во время экзекуции, не прекословил. Спору нет, что сходные, да ведь, извольте сами согласиться, это и до начальства дойти может... Кто его знает? может, он нарочно и не прекословил, чтоб после жаловаться. У нас уж был такой пример, что мы ограничились одним внушением-с, чтоб впредь поступал осторожнее, не сек бы зря, так нас самих чуть-чуть под суд не отдали, а письма-то тут сколько было! целый год в страхе обретались.
Змеищев. Ну, конечно, конечно, выгнать его; да напишите это так, чтоб энергии, знаете, побольше, а то у вас все как-то бесцветно выходит -- тара да бара, ничего и не поймешь больше. А вы напишите, что вот, мол, так и так, нарушение святости судебного приговора, невинная жертва служебной невнимательности, непонимание всей важности долга... понимаете! А потом и повесьте его!.. Ну, а того-то, что скрыл убийство...
Крестовоздвиженский потупляется.
Однако ж?..
Крестовоздвиженский. Оно конечно, ваше высокородие, упущение немаленькое-с.
Змеищев. Какое тут упущение, помилуйте! Ведь этак по большим дорогам грабить будут... ведь он взятку, чай, с убийцы-то взял?
Крестовоздвиженский. Уж куда ему, ваше высокородие, взятку! просто именно от неведенья и простодушия; я его лично знаю-с, он у меня еще писцом служил: прекраснейший чиновник-с, только уж смирен очень; его бы, ваше высокородие, куда-нибудь, где поспокойнее, перевести; хоть бы вот в заседатели.
Входит лакей.
Лакей. Господин Дернов пришел.
Змеищев. Пусть войдет.
Дернов входит и становится у стены.
(Вставая и подходя к нему.) Ну, так ты все еще жениться хочешь?
Дернов. Имея намеренье вступить в законный брак с дочерью коллежского регистратора...
Змеищев. Знаю, знаю; я сегодня видел твою невесту: хорошенькая. Это ты хорошо делаешь, что женишься на хорошенькой. А то вы, подьячие, об том только думаете, чтоб баба была; ну, и наплодите там черт знает какой чепухи.
Крестовоздвиженский (подобострастно улыбаясь). Это справедливо, ваше высокородие, изволили заметить, что приказные больше от скуки, а не то так из того женятся, что год кормить обещают или там сюртук сошьют-с.
Змеищев (смеется). Ну да, ну да. Так ты смотри, меня пригласи на свадьбу-то; я тово... а вы, Федор Гарасимыч, велите ему на свадьбу-то выдать... знаете, из тех сумм.
Дернов низко кланяется.
СЦЕНА III
Комната в квартире господина и госпожи Рыбушкиных. Марья Гавриловна (она же и невеста) сидит на диване и курит папироску. Она высокого роста, блондинка, с весьма развитыми формами; несколько подбелена и вообще сооружена так, что должна в особенности нравиться сохранившимся старичкам и юношам с потухшими сердцами.
Марья Гавриловна. Господи! что ж это и за жизнь за такая! другие, посмотришь, то по гостям, то в клуб, а ты вот тут день-деньской дома сиди. Только и утешенья, как папироску-другую выкуришь. Куришь-куришь до того, что в глазах потемнеет. А все Мишель приучил! Странно, однако, что он на мне не женится. Выходите, говорит, замуж за Дернова, тогда и нам свободно будет. Свободно? а кто его знает, свободно ли? в душу-то к нему никто не ходил. Вот прошлого года Варенька выходила замуж, тоже думала, что будет хозяйка в доме, а вышло совсем напротив. Запер ее, да еще колотит. А это одно каково мученье -- такого плюгавого целовать-то -- даже вчуже тошно. Да уж хоть бы этот поскорее женился -- все бы один конец, а теперь сиди вот дома, слушай все эти безобразия, да еще себя наблюдай. Все говорят: красавица, красавица, а что в этом проку-то! А какие, право, эти мужчины смешные! Намеднись, вечером, была я у Марьи Петровны; ну, конечно, декольте; подходит это Трясучкин, будто разговаривает, а самого его так и подергивает, и глаза такие масляные-премасляные, словно косые. Вот и Змеищев давеча: глядел-глядел, мне даже смешно стало. "Вы, говорит, украшение Крутогорска; Дернов недостоин обладать таким розаном". Да, розан, -- держи карман! Нынче, верно, не розан нужен. Вот тоже третьева дни сижу я вечером у окна, будто погодой занимаюсь, а сама этак в кофточке и волосы распущены. Подходит этот прапорщик -- как бишь его? ну, да все равно. "Как вы, говорит, прелестны, сударыня". -- "А вам что за дело?" -- говорю я. "Я, дескать, не могу без волненья видеть". -- "А коли не можете, так женитесь", -- говорю я. Так куда тебе, -- навострил лыжи, да и не встречается с тех пор... Господи! скука какая! хоть бы поскорее все это кончилось.
Входит Бобров, очень молодой человек, высокого роста и цветущий здоровьем; на нем коротенькое серое пальто, которое в приказном быту слывет под названием зефирки; жилет и панталоны пестроты изумительной. Под мышкой у него бумаги.
Бобров. Вы одне, Машенька?
Марья Гавриловна. Ну да, одна; насилу-то ты пришел.
Бобров. Нельзя было -- дела; дела -- это уж важнее всего; я и то уж от начальства выговор получил; давеча секретарь говорит: "У тебя, говорит, на уме только панталоны, так ты у меня смотри". Вот какую кучу переписать задал.
Марья Гавриловна. Ну, а Дернова видел?
Бобров. Видел, как же; у него все кончено; на свадьбу пятьдесят целковых дали; он меня и в дружки звал; я, говорит, все сделаю отменным манером.
Марья Гавриловна. Да, дожидайся от него. Ну, а тебе поди, чай, и не жалко, что я за Дернова выхожу.
Бобров. Посудите сами, Машенька-с, статочное ли мне дело жениться. Жалованья я получаю всего восемь рублей в месяц... ведь это, выходит, дело-то наплевать-с, тут не радости, а больше горести.
Марья Гавриловна. Удивляюсь я, право; такой ты молодой, а говоришь -- словно сорок лет тебе.
Бобров. Ничего тут нет удивительного, Марья Гавриловна. Я вам вот что скажу -- это, впрочем, по секрету-с -- я вот дал себе обещание, какова пора ни мера, выйти в люди-с. У меня на этот предмет и план свой есть. Так оно и выходит, что жена в евдаком деле только лишнее бревно-с. А любить нам друг друга никто не препятствует, было бы на то ваше желание. (Подумавши.) А я, Машенька, хотел вам что-то сказать.
Марья Гавриловна. Что еще?
Бобров. А вы поцелуйте меня.
Марья Гавриловна. Ах ты дурачок! а я думала, что он и взаправду дело скажет,
Целуются.
Бобров. Ах ты, господи! (Вздыхает.)
Марья Гавриловна. Ну, чего вздыхаешь-то?
Бобров. Да как же-с; ведь вот, кажется, целый бы век сидел тут подле вас да целовался.
Марья Гавриловна. Это ты не глупо вздумал. В разговоре-то вы все так, а вот как на дело пойдет, так и нет вас. (Вздыхает.) Да что ж ты, в самом деле, сказать-то мне хотел?
Бобров. А вот что-с. Пришел я сегодня в присутствие с бумагами, а там Змеищев рассказывает, как вы вчера у него были, а у самого даже слюнки текут, как об вас говорит. Белая, говорит, полная, а сам, знаете, и руками разводит, хочет внушить это, какие вы полненькие. А Федор Гарасимыч сидит против них, да не то чтоб смеяться, а ровно колышется весь, и глаза у него так и светятся, да маленькие такие, словно щелочки или вот у молодой свинки.
Марья Гавриловна. Ну, так что ж?
Бобров. А я к тому это, Машенька, говорю, что если вы не постоите, так и Дернову и мне хорошо будет. Ведь он влюблен, именно влюблен-с; не махал бы он этак руками-то, да и Дернову бы позволения не дал. (Ласкается к: ней. Марья Гавриловна задумывается.)
Марья Гавриловна (томно). Однако ты добру меня тут учишь.
Бобров. Ведь оно только спервоначала страшно кажется, а потом и в привычку взойдет... Что ж вы так задумались, Машенька?
Марья Гавриловна. Ах, отстань, пожалуйста!
Бобров. Вот вы какие! а еще говорите, что любите.
Марья Гавриловна. Ну, ну, полно вздор-то говорить; а ты расскажи лучше, что ты вчера делал, что тебя целый день не видать было.
Бобров. Поутру, известно, в присутствии был, а по вечеру в городской сад с Трясучкиным ходил. Идем мы, Машенька, по аллее, а впереди нас Змеищева экономка с квартального женой. Идем мы по аллее, а экономка-то оглядывается, все на меня посматривает, да и говорит квартальной-то: "Ктой-то это такой красивый молодой мужчина?" -- а жена-то квартального: "Это, говорит, Бобров; он у вас служит". -- "А должно быть, интересный мужчина, -- говорит экономка-то, -- и как себя хорошо держит". А Трясучкин-то злится; вот, говорит, счастье тебе! завтра же куплю, говорит, себе новой материи на брюки.
Марья Гавриловна. А ты, чай, и обрадовался?
Входит Рыбушкин в нетрезвом виде; за ним Дернов.
Рыбушкин (поет). Во-о-озле речки, возле мосту жил старик... с ссстаррухой... Дда; с ссстаррухой... и эта старруха, чтоб ее черти взяли... (Боброву.) Эй ты, пошел вон!
Дернов. Да вы, папенька, не извольте убиваться так. Марья Гавриловна, позвольте ручку-с!
Марья Гавриловна. Это вы его так накатили? нече сказать... Господи! да когда ж все это кончится? (Дает Дернову руку, которую тот целует.)
Дернов. Что ж мне, Марья Гавриловна, делать, когда папенька просят; ведь они ваши родители. "Ты, говорит, сегодня пятьдесят целковых получил, а меня, говорит, от самого, то есть, рожденья жажда измучила, словно жаба у меня там в желудке сидит. Только и уморишь ее, проклятую, как полштофика сквозь пропустишь". Что ж мне делать-то-с? Ведь я не сам собою, я как есть в своем виде-с.
Марья Гавриловна. Ладно, ладно; безобразничайте с ним.
Рыбушкин. Цыц, Машка! я тебе говорю цыц! Я тебя знаю, я тебя вот как знаю... вся ты в мать, в Палашку, чтоб ей пусто было! заела она меня, ведьма!.. Ты небось думаешь, что ты моя дочь! нет, ты не моя дочь; я коллежский регистратор, а ты титулярного советника дочь... Вот мне его и жалко; я ему это и говорю... что не бери ты ее, Сашка, потому она как есть всем естеством страмная, вся в Палагею... в ту... А ты, Машка, горло-то не дери, а не то вот с места не сойти -- убью; как муху, как моль убью...
Марья Гавриловна (Дернову). Хоть бы увели вы его!
Рыбушкин. Увести! меня увести! Сашка! смотри на него! (Указывая на Боброва.) Это ты знаешь ли кто? не знаешь? Ну, так это тот самый титулярный советник... то есть, для всех он писец, а для Машки титулярный советник. Не связывайся ты, Сашка, с нею... ты на меня посмотри: вот я гуляю, и ты тоже гуляй. (Поет.) Во-о-озле речки...
Марья Гавриловна. А вот погодите, я мамаше скажу; она вам даст титулярного советника... Да уведите же его, Александра Александрыч.
Дернов. Полноте же, папенька, вы лучше усните...
Бобров. Да вы что на него смотрите, Александр Александрыч. Известно, пьяный человек; он, пожалуй, и ушибет чем ни на есть, не что с него возьмешь.
Рыбушкин (почти засыпает). Ну да... дда! и убью! ну что ж, и убью! У меня, брат Сашка, в желудке жаба, а в сердце рана... и все от него... от этого титулярного советника... так вот и сосет, так и сосет... А ты на нее не смотри... чаще бей... чтоб помнила, каков муж есть... а мне... из службы меня выгнали... а я, ваше высоко... ваше высокопревосходительство... ишь длинный какой -- ей-богу, не виноват... это она все... все Палашка!.. ведьма ты! ч-ч-ч-е-орт! (Засыпает; Дернов уводит его.)
Марья Гавриловна. Вот этакие-то штуки кажный день слушать!
СЦЕНА IV
Квартира Дерновых; после свадьбы прошло две недели. По комнате разбросаны юбки и другие принадлежности женского туалета. Общий беспорядок.
Дернов (один). Ну, вот и женился. Вместо того чтобы встать пораньше да на базар сходить, а она до сих пор в постели валяется! я, говорит, не кухарка тебе далась, вот и разговаривай с ней. Мне бы теперича на службу уж пора, а до сих пор самовару нет; пожалуй, и без чаю уйти придется. (Задумывается.) А какая она, однако ж, белая да полная, я и не ожидал. Оно, конечно, с первого разу было видно, что не сухарь, а все-таки... Только не нравится мне этот Бобров; ну, чего он сюда каждый день таскается! Попросить разве Ивана Васильевича, чтоб арестовал его сутки на трои. Вот и его высокородие тоже на свадьбе сконфузили: сели около Маши, да и не отходят... А те-то, дурачье, и из комнаты вон повышли, а и случится которому надобность по комнате пройти, так все норовит по стенке, словно они зачумленные. Впрочем, и самому мне будто совестно стало; думаю, невежливо его высокородие одних оставлять, а подойти не смею. Да и его высокородие увидели, что я все около двери стою: "Ступай, говорят, любезный, я тебя не стесняю". Так и просидели они весь вечер вдвоем. А уж папенька-то, Гаврило Осипыч, что ж это и за человек такой! не успели мы из церкви приехать, а он уж нализался, и кричит тут! И диви бы штоф, а то одну рюмку выпьет, и уж не годится. Хорошо еще, что маменька их в чулан заперли, а то, кажется, они и стекла-то бы все повышибли!
Входит купец Скопищев, человек немолодых лет. В продолжение разговора он испускает частые и продолжительные вздохи.
Дернов. А, Егор Иваныч! добро пожаловать! садись, брат, гость будешь!
Скопищев вздыхает.
Да ну, садись! чего вздыхаешь-то!
Скопищев (садится). Ох!.. что садиться-то! я за делом.
Дернов. Знаю, что за делом, да ведь не стоя же нам разговаривать. Что ж ты скажешь?
Скопищев. Что сказать-то? ты скажи прежде сам.
Дернов. Хорошего-то, брат, не много; ведь он просьбу подал...
Скопищев. Ну?
Дернов. Сбавляет против тебя сто целковых...
Скопищев. Ну?
Дернов. Чего ж тебе еще? стало быть, утвердить за тобой нельзя никоим манером.
Скопищев. А торги?
Дернов. Мало ли что торги! тут, брат, казенный интерес. Я было сунулся доложить Якову Астафьичу, что для пользы службы за тобой утвердить надо, да он говорит: "Ты, мол, любезный, хочешь меня уверить, что стакан, сапоги и масло все одно, так я, брат, хошь и дикий человек, а арифметике-то учился, четыре от двух отличить умею".
Скопищев. Ох!.. так как же?..
Дернов. Делать нечего, подавай и ты прошение; сбавь хошь полтину против его цены -- ну, и утвердим за тобой.
Молчание, в продолжение которого Скопищев рассчитывает и усиленно вздыхает.
Скопищев. Ну, а просьбу-то, чай, на гербовой?
Дернов. А то на простой! Эх ты! тут тысячами пахнет, а он об шести гривенниках разговаривает. Шаромыжники вы все! Ты на него посмотри; вот он намеднись приходит, дела не видит, а уж сторублевую в руку сует -- посули только, да будь ласков. Ах, кажется, кабы только не связался я с тобой! А ты норовишь дело-то за две головы сахару сладить. А хочешь, не будет по-твоему?
Скопищев (с испугом). Что ты? что ты? а кто же тебе кровать-то подарил под свадьбу?
Дернов. То-то кровать! Подарил кровать, да и кричит, что ему вот месяц с неба сыми да на блюде подай. Все вы, здешние колотырники, только кляузы бы да ябеды вам сочинять... голь непокрытая! А ты затеял дело, так и веди его делом, широкой, то есть, рукой.
Входит Марья Гавриловна, заспанная и растрепанная, в одной кофте.
Марья Гавриловна (мужу). Ты еще не ушел на службу? а-а-а! (Зевает и потягивается.)
Дернов. Когда ж было уйти; я чаю хочу.
Марья Гавриловна. Ну, ну, пожалуйста, комедий-то не разыгрывай! Ишь граф какой выискался! без чаю ему жить невозможно! (Скопищеву.) А ты, борода, какую кровать-то прислал?
Скопищев. Какую? известно какую!
Марья Гавриловна (передразнивая). Известно какую! Пошевелиться нельзя, на весь дом скрипит.
Дернов. Это точно, что скрипит.
Марья Гавриловна. Катерина! а Катерина!
Является кухарка.
Приготовь ты водки да закуски подай, балычку, что ли.
Дернов. Это зачем?
Марья Гавриловна. А у меня Бобров будет.
Дернов. Нет, уж это тово... я чаю не пил, так вы эти закуски-то до завтрева оставьте... Я этого Боброва по шеям вытолкаю, я ему бока переломаю... да что тут? я и тебя, слякоть ты этакая, так отделаю, что ты... (Воодушевляясь.) Да ты что думаешь? ты что думаешь? я молчать буду?..
Марья Гавриловна. А ты не храбрись! больно я тебя боюсь. Ты думаешь, что муж, так и управы на тебя нет... держи карман! Вот я к Петру Петровичу пойду, да и расскажу ему, как ты над женой-то озорничаешь! Ишь ты! бока ему отломаю! Так он и будет тебе стоять, пока ты ломать-то их ему будешь!
Скопищев. А ты бы, Александра Александрыч, попреж ее-то самоё маленько помял... У меня вот жена-покойница такая же была, так я ее, бывало, голубушку, возьму, да всю по суставчикам и разомну... (Вздыхает.) Такая ли опосля шелковая сделалась! Кровать, вишь, скрипит! а где ж это видано, чтоб кровать не скрипела, когда она кровать есть!
Дернов (жене). Слышишь ты у меня! чтоб здесь бобровского и духу не пахло... слышишь! а не то я тебя, видит бог, задушу! своими руками задушу!
Входит сторож.
Сторож. Ваше благородие! пожалуйте, Яков Астафьич в присутствие зовет.
Дернов. Чего там ему еще нужно?
Марья Гавриловна. Ладно, ладно, ступай-ка! там еще увидим, как это ты меня задушишь! Вишь, храбрец! откуда это выехать изволили! (Скопищеву.) А ты, борода, у меня припомнишь, припомнишь, припомнишь!
СЦЕНА V
Квартира Змеищева. Марья Гавриловна стоит у окна. Змеищев входит в халате и с шапочкой на голове.
Змеищев. Ну, вот вы и пришли, душенька...
Занавес опускается.
ЧТО ТАКОЕ КОММЕРЦИЯ?
СЦЕНА I
Действие происходит в уездном городе Полорецке. Театр представляет общую залу в трактирном заведении. За одним столом сидят трое купцов и пьют чай. Купцы эти: Палахвостов, Ижбурдин и Сокуров. Палахвостов -- старик седой и угрюмый; пьет чай молча и крестится двумя перстами. Ижбурдин -- средних лет, нрава до крайности сообщительного, говорит много, но как-то, по временам, неприятно размазывает. Сокуров -- молодой купчик, не отделенный от "родителя" и сильно мечтающий о возможности сделаться со временем "негоциантом". За особым столом сидит Праздношатающийся, господин подозрительного свойства, занимающийся отчасти изучением торговли и промышленности, отчасти же композицией нравоописательных статеек a la Тряпичкин. Во время разговора купцов он сначала прислушивается, а потом незаметным образом сам впадает в их речь.
Ижбурдин. А позвольте узнать, почем изволили, Савва Семеныч, хлебец покупать? Эй, малый! кипяточку! (Стучит ложкой по стакану.)
Палахвостов. Да по полтине пуд.
Ижбурдин. Так-с, это точно-с, цена сходственная; а вот намеднись так мне вотячок по сороку копеечек кулей с пяток в анбары свалил... этак-то будет, пожалуй, еще поавантажнее-с...
Палахвостов. Да ты разве по хлебной-то части торгуешь, что ли?
Ижбурдин. Как же-с; наше, Савва Семеныч, дело маленькое; капиталов больших не имеем, по крохам, можно сказать, свое благосостояние собираем... И если бы да не воздержность наша да не труды -- выходит, были бы мы теперича и совсем без капиталу-с... Мы точно завсегда всем торгуем; главная у нас статья, конечно, леса-с, потому что нам по этой части сподручнее...
Палахвостов. Воровать, то есть.
Ижбурдин. Зачем же обижать, Савва Семеныч? Лесное дело, вы, чай, сами изволите знать, возможно ли там без сноровки-с? Нам, Савва Семеныч, без барышов быть невозможно-с, наше дело коммерческое: тем только и живешь, что оборотишься не столько капиталом, сколько изворотцем-с. Ну, а по лесной части одни угощенья чего стоят! Было время, что и горское пили, а нынче горского-то и в подпитии ему не подашь, давай, говорит, шинпанского, да еще за бороду ухватить тебя норовит. Одной обиды да наругательства сколько на твою голову упадет! с пристани-то выедешь ровно обстрелянный. Вот хошь бы онамеднись. Пили они это, пили; кажется, ничего не жалел, лишь бы глотку-то его поганую залить -- так нет вот, мало ему и того. В нутро-то ему не лезет, так он -- что бы ты думал -- выкинул? "Ну, говорит, мы теперича пьяни; давай, говорит, теперича реку шинпанским поить!" Я было ему в ноги: "За что ж: мол, над моим добром наругаться хочешь, ваше благородие? помилосердуй!" И слушать не хочет... "Давай, кричит, шинпанского! дюжину! мало дюжины, цельный ящик давай! а не то, говорит, сейчас все твои плоты законфескую, и пойдешь ты в Сибирь гусей пасти!" Делать-то нечего: велел я принести ящик, так он позвал, антихрист, рабочих, да и велел им вино-то в реку бросить. Вы посудите, Савва Семеныч, каково мне-то тут было смотреть на свое добро... А он только икает: "Вот, говорит, это тебе, значит, трессировка, чтоб ты знал, что в моей власти и по шерсти тебя погладить, и за вихор драть... весь ты, говорит, в моих руках, и ты и потомство твое!" Так вот она какова, наша-то коммерция!
Палахвостов (смеется). Это точно, что коммерция плохая, если мордой отвечать приходится.
Ижбурдин. А не дай я ему этого ящика, и невесть бы он мне какой тут пакости натворил! Тут, Савва Семеныч, уж ни за чем не гонись, ничем не брезгуй. Смотришь только ему в зубы, как он над тобой привередничает, словно баба беременная; того ему подай, или нет, не надо, подай другого. Только об одном и тоскует, как бы ему такое что-нибудь выдумать, чтобы вконец тебя оконфузить.
Сокуров (стучит в стакан). Тенерифу бутылку! да архангельского, слышишь!
Палахвостов. Это, брат, зачем?
Сокуров. Пожалуйте! ваше здоровье-с! Подают бутылку вина; Праздношатающийся приметно подвигает свой стул к столу собеседников.
Ижбурдин. Так-то вот день-деньской мы и маемся: где полтина, где рубль. А вы вот, Савва Семеныч, говорите, чтобы насчет того, одним товаром торговать! Намеднись вот и Порфирий Петрович тоже. Пришел я к ним на торги по арестантской части: "Чтой-то, говорит, тебя, Павел Прокофьич, ровно шакала, во все стороны черти носят; ты, говорит, свою бы часть знал, а то от тебя только казенному делу поношенье!.. Да куды же я с одним-то предметом сунусь! Нонече вон пошли везде выдумки -- ничего и сообразить-то нельзя. Цена-то сегодня полтина, а завтра она рубль; ты думаешь, как бы тебе польза, аи выходит, что тебе же шею наколотят; вот и торгуй! Теперича, примерно, кожевенный товар в ходу, сукно тоже требуется -- ну, мы и сукно по малости скупаем, и кожи продаем: все это нашей совести дело-с. Намеднись, доложу я вам, был я в Лежневе на ярмонке -- и что-что там комисинеров наехало, ровно звезд небесных: всё сапожный товар покупать. Конечно-с, ихнее дело простое. Казна им примерно хошь рубль отпущает, так ему надо, чтоб у него полтина или там сорок копеек пользы осталось. А с мужиком ему дело иметь несподручно! Этот хошь, может, и больше пользы даст, да оно неспокойно; не ровен час, следствие или другая напасть -- всем рот-от не зажмешь. Опять же и отчетностью они запутаны: поди да кажного расписываться заставляй, да урезонивай, чтоб он тебе, вместо полтины, рубль написал. А как с оптовым-то дело заведет, оно и шито и крыто; первое дело, что хлопот никаких нет, а второе, что предательству тут быть невозможно, почему как купец всякий знает, что за такую механику и ему заодно с комисинером несдобровать. Эта штука для нас самая выгодная; тут, можно сказать, не токма что за труд, а больше за честь пользу получаешь.
Сокуров (важничая). Да; с казной дело иметь выгоднее всего; она, можно сказать, всем нам кормилица... (Наливает вино в бокалы. К Праздношатающемуся.) Не прикажете ли, не имеем счастья знать по имени и по отчеству...
Праздношатающийся. С охотою. (Пьет.) А где вы это, господа, такой здесь тенериф достаете?.. отличный! И жжет и першит... славно! точно водка.
Ижбурдин. Из Архангельска-с; мы тоже и тамотки дела имеем-с.
Праздношатающийся (к Сокурову). Вот-с вы изволили выразиться, что с казною дело иметь выгодно. Не позволите ли узнать, почему вы так заключаете?
Сокуров. Да-с, это точно-с; сами изволите знать... казна... выгодно...
Палахвостов. Вот то-то, молодец! брешешь: выгодно, а почему, объяснить не умеешь.
Ижбурдин. А вот позвольте... вы, верно, комисинер?
Праздношатающийся (обижаясь). Почему же комиссионер?.. Я просто для своего удовольствия... желательно, знаете, этак по торговой части заняться...
Ижбурдин. Так вы приказный? понимаем-с! Это точно, что нонче приказные много насчет торговли займуются -- капиталы завелись... Так вот, изволите ли видеть, с казной потому нам дело иметь естественнее, что тут, можно сказать, риску совсем не бывает. В срок ли, не в срок ли выставишь -- казна всё мнет. Конечно-с, тут не без расходов, да зато и цены совсем другие, не супротив обыкновенных-с. Ну, и опять-таки оттого для нас это дело сподручно, что принимают там всё, можно сказать, по-божески. Намеднись вон я полушубки в казну ставил; только разве что кислятиной от них пахнет, а по прочему и звания-то полушубка нет -- тесто тестом! Поди-ка я с этакими полушубками не токмо что к торговцу хорошему, а на рынок -- на смех бы подняли! Ну, а в казне все изойдет, по той причине, что потребление там большое. Вот тоже случилось мне однажды муку в казну ставить. Я было в те поры и барки уж нагрузил: сплыть бы только, да и вся недолга. Ан тут подвернулся приказчик от купцов заграничных -- цену дает хорошую. Думал я, думал, да перекрестимшись и отдал весь хлеб приказчику.
Праздношатающийся. А как же с казной-то?
Ижбурдин. С казной-то? А вот как: пошел я, запродавши хлеб-от, к писарю станового, так он мне, за четвертак, такое свидетельство написал, что я даже сам подивился. И наводнение и мелководие тут; только нашествия неприятельского не было. Все смеются
Так оно и доподлинно скажешь, что казна-матушка всем нам кормилица... Это точно-с. По той причине, что если б не казна, куда же бы нам с торговлей-то деваться? Это все единственно, что деньги в ланбарт положить, да и сидеть самому на печи сложа руки.
Праздношатающийся (глубокомысленно). Да, это так... недостаток предприимчивости... Это, так сказать, болезнь русского купечества... Это, знаете... Палахвостов улыбается.
Вы смеетесь? Но скажите, отчего же? Отчего же англичане, например, французы...
Ижбурдин. А оттого это, батюшка, что на все свой резон есть-с. Положим, вот хоть я предприимчивый человек. Снарядил я, примерно, карабь, или там подрядился к какому ни на есть иностранцу выставить столько-то тысяч кулей муки. Вот-с, и искупил я муку, искупил дешево -- нече сказать, это все в наших руках, -- погрузил ее в барки... Ну-с, а потом-то куда ж я с ней денусь?
Праздношатающийся. Как куда?
Ижбурдин. Да точно так-с. Позвольте полюбопытствовать, изволили вы по Волге плавать? Нет-с? Так это точно, что вы на этот счет сумненье иметь можете; а вот как мы в эвтом деле, можно сказать, с младенчества произошли, так и знаем, какая это река-с. Это река, доложу я вам, с позволения сказать-с; сегодня вот она здесь, а на другой, сударь, год, в эвтом-то месте уж песок, и она во куда побегла. Никак тут и не сообразишь. Тащишься-тащишься этта с грузом-то, инда злость тебя одолеет. До Питера-то из наших мест года в два не доедешь, да и то еще бога благодари, коли угодники тебя доехать допустят. А то вот не хочешь ли на мели посидеть, или совсем затонуть; или вот рабочие у тебя с барок поубегут -- ну, и плати за всё втридорога. Какая же тут, сударь, цена? Могу ли я теперича досконально себя в эвдаком деле рассчитать? Что вот, мол, купил я по том-то, провоз будет стоить столько-то, продам по такой-то цене? А неустойка? Ведь англичанин-то не казна-с; у него нет этих ни мелководий, ни моровых поветриев, ему вынь да положь. Нет-с; наша торговля еще, можно сказать, в руках божьих находится. Вывезет Волга-матушка -- ну, и с капиталом; не вывезет -- зубы на полку клади. (Обращаясь к Палахвостову.) А вот вы еще, Савва Семеныч, говорите, чтобы одним предметом торговать!
Палахвостов (самодовольно). Да, оно конечно; тут большой нужно капитал иметь, чтоб не треснуть.
Ижбурдин. Вот-с со мной случай был. Сплавляли мы ленное семя к Архангельскому; речонка эта -- Луза прозывается -- препакостная: дней восемь или десять только и судоходство по ней, а плыть приходится до Устюга целую неделю: пропустил тут час, ну и бедствуй. Да и не пропустишь свое время, так и то плыть по ней наказанье; затопит это кругом верст на пять -- и не знаешь, где берега. Плыл я, кажись, благополучно; еще бы немножко, выплыл бы в безопасное место. Так нет же; нанесло меня, сударь, на такую колоду, что ни взад, ни вперед. Куда деваться? А мимо меня, знаешь, проходят барки других торговцев, и хошь бы один те глазом мигнул. Я было к ним: помогите, дескать, родимые! -- так куда тебе! Только смеются... Принужден был искать рабочих вольных, а там и людей-то совсем нет. Что ж бы вы думали взяли с меня эти зыряне? Да по три рубля в сутки на человека, да сутки с трои тут и проработали. Вот тебе и барыш.
Праздношатающийся. Да отчего ж, однако ж, вам не помогли товарищи?
Ижбурдин. Какие они, батюшка, товарищи? Вот выпить, в три листа сыграть -- это они точно товарищи, а помочь в коммерческом деле -- это, выходит, особь статья. По той причине, что им же выгоднее, коли я опоздаю ко времени, а как совсем затону -- и того лучше. Выходит, что коммерция, что война -- это сюжет один и тот же. Тут всякий не то чтоб помочь, а пуще норовит как ни на есть тебя погубить, чтоб ему просторнее было. (Вздыхает.)
Праздношатающийся. Как же это по-вашему называется?
Ижбурдин. А как бы вам объяснить, ваше благородие? Называют это и мошенничеством, называют и просто расчетом -- как на что кто глядит. Оно конечно, вот как тонешь, хорошо, как бы кто тебе помог, а как с другого пункта на дело посмотришь, так ведь не всякому же тонуть приходится. Иной двадцать лет плавает, и все ему благополучно сходит: так ему-то за что ж тут терять? Это ведь дело не взаимное-с.
Праздношатающийся. Ну, а скажите, пожалуйста, вот вы начали говорить о судорабочих: каким образом вы их нанимаете?
Ижбурдин. По контрактам, батюшка, по контрактам; нынче без контракта по земле, сударь, ходить невозможно.
Праздношатающийся. Каким же образом и с кем заключаете вы эти контракты?
Ижбурдин. А с помещиком или, всего чаще, с начальством. С начальством-то, знаете, для нас выгодней, почему что хошь и есть там расход, да зато они народ уж больно дешево продают! Дашь писарю сто рублев, так он хошь всю волость за тобой укрепит. Ну, и выходит, что и сам ты над ними будто помещик. Что бога гневить, тягости нам не сколько! А все потому, осмелюсь вам доложить, что начальство выгод наших доподлинно определить себе не может. Кабы знало оно их, стами рублями тут бы не отделаться, а теперича вот, с малого-то ума, ему и сто рублей за медведя кажутся. Оно конечно, сударь, отчего бы иногда и не прибавить, да испытали мы уж на себе это средствие; дал ты ему нынче полтораста, он на будущий год уж двести запросит, да так-то разбалуется, что кажную зиму будет эту статью увеличивать. А как определено ему спокон веку, словно заповедь, сто рублев, так они у него уж зараньше в приходную книжку так записаны.
Праздношатающийся. Ну, а как вы полагаете, например, насчет железных дорог? ведь это, по моему мнению, могло бы значительно подвинуть нашу торговлю... Палахвостов крестится.
Ижбурдин (в сторону). Э, брат! да ты, видно, вон из каких сторон выехал!
Сокуров (важно и с расстановкой). Да-с, это точно... чугунки, можно сказать, нонче по Расеи первой сюжет-с... Осмелюсь вам доложить, ездили мы с тятенькой летось в Питер, так они до самого, то есть, Волочка молчали, а как приехали мы туда через девять-ту часов, так словно закатились смеючись. Я было к ним: Христос, мол, с вами, папынька! -- так куда! "Ой, говорят, умру! эка штука: бывало, в два дни в Волочок-от не доедешь, а теперь, гляди, в девять часов, эко место уехали!" А они, смею вам объясниться, в старой вере состоят-с!
Палахвостов. Да, это точно, что родитель твой в старой вере; ну, а ты, щенок, в какой состоишь?
Сокуров. Что ж, Савва Семеныч, мы, конечно, люди молодые; желаем в образованном обчестве пребывание иметь -- вот хочь бы, примерно, с их благородным сиятельством... Почему что нам ихний сюжет оченно интересен-с. Мы, Савва Семеныч, благодарение господу, завсегды благородных делов не гнушаемся, и насупротив того с нашим полным удовольствием к ним привержены... Вот хочь бы касательно родителя-с: оно конечно, они нам родители, а известно, супротив нас уж не придутся. Кабы да не власть ихняя, что они нас, можно сказать, в табак истереть могут, что ж бы они против нас могли сделать?
Палахвостов. Знаю, брат, знаю. Знаю, что умри вот сегодня у тебя отец, так ты бы и прах-от его завтра по ветру развеял. А вот ужо лишит он тебя родительского благословенья!
Сокуров. Благословенья он нас не лишит; это вы напрасно, Савва Семеныч, беспокоиться изволите. За свои грехи они нонче зрения уж лишились, так им теперича впору богу молиться, а не то что дела делать. А уж коли вы нас, Савва Семеныч, неуваженьем попрекаете, так вам самим, уповательно, известно, какими порядками наш родитель свой капитал нажил-с. Кабы не сжег он в ту пору питейный дом со всем, и с целовальником, да не воспользовался бы тутотка выручкой, какой же бы он был теперича капиталист? За это, может, и зрение-то у них бог отнял. Какое же тут, Савва Семеныч, почтение в сердце воспитывать можно, когда он сызмальства таким делом занимался? а мы и то завсегда против них с нашим уважением-с.
Палахвостов. Ладно; вот тебе черти-то на том свете язык-от вытянут! Несколько минут молчания.
Ижбурдин. Вот-с, ваше благородие, все-то так у нас нынче в расстрой пошло.
Праздношатающийся. Ну, а как вы насчет улучшенных путей сообщения полагаете? Ижбурдин молчит.
Однако ж?
Ижбурдин (решительно). Для нас, ваше благородие, эти чугунки все одно что разорение. Вот как я вам скажу.
Праздношатающийся. Отчего же? ведь вы сами сейчас высчитывали, какие несете убытки от тысячи неудобств, которые терпит каждая ваша операция вследствие затруднительности путей сообщения.
Ижбурдин. Да-с, это точно; я говорил. Да мы к этому, сударь, делу испокон веку привычны; для нас коли дело обошлось без ухабов да без бурлаков, так ровно оно и не дело. Это все единственно, что без клопов спать, без тараканов щи хлебать. На все на это резонт есть. Давно вот, кажется, почту завели, а наш брат и доселе ее обегает, все норовит на вольных проехать. Эти вольные берут с нас втридорога, а везут-то так, что, кажется, душу всю вытянут, проклятые! Летось ездил я с парнем в Нижний, так ямщик-от стал на полдороге от станции и не едет вперед: "Прибавьте, говорит, хозява, три целковеньких, так поеду". Ну, и прибавили. А отчего мы, сударь, на почте не ездим? Оттого всё, не нашего это малого разума дело, а дело оно дворянское. Да и чиновник там такой есть, что на кажной тебе станции словно в зубы тычет: "Ты, мол, за честь почитай, что сподобил тебя создатель на почте ехать!" Станешь это лошадей торопить, ну, один только и есть ответ ото всех: "Подождешь, мол, борода, не великого чина птица". Ну, и стоишь у завалинки. Выходит, совсем мы и обробели по той причине, что всяк тебе говорит: куда ты лезешь? Уж чего, кажется, деньги по повестке получить -- а и тут, сударь, измаешься, ждамши в передней; не пускают дальше, да и все тут. Полтинник тебе стоит, чтоб пред лицо-то почтмейстерское стать, а он тебе тоже: "Не время, приходи завтра". И хошь бы со всеми они так-ту -- все бы не больно надсадно было, а то ведь под носом у тебя деньги отдают, под носом сторонние люди через переднюю проходят... А об мужичках и говорить нече; случалось мне самолично видеть, как иной по месяцу ходит за каким-нибудь целковым, и все решенья получить не может. По эвтой самой причине и капитал свой бережешь, даже от сИмьи-то прячешь, потому что не ровен час -- деньги-то всякому ведь по нраву. Как в этаком-то, сударь, переделе побываешь, так и не до чугунок тебе: это первое дело. А второе дело будет то, что для нашего брата купца что чугунки завести, что гильдию совсем снять -- это все один сюжет, все вокруг одного пальца вертится. Если б вот хочь теперь кто сказал, что нет, мол, гильдии, всяк, дескать, волен торговать чем и как пожелает -- разве можно было бы оставаться в купцах? Ведь это для нас было бы все единственно, что в петлю лезти, почему как в то время всякая, можно сказать, щель тебе сотню супостатов выставит: "Сам-то, мол, я хошь и проторгуюсь, да по крайности весь торг перепакощу". Ну, и чугунки то же-с. Тягостное и продолжительное молчание.
Это, ваше благородие, всё враги нашего отечества выдумали, чтоб нас как ни на есть с колеи сбить. А за ними и наши туда же лезут -- вон эта гольтепа, что негоциантами себя прозывают. Основательный торговец никогда в экое дело не пойдет, даже и разговаривать-то об нем не будет, по той причине, что это все одно, что против себя говорить.
Палахвостов. Это точно, что эти щелкоперы (указывает на Сокурова) на всю нашу операцию мораль напустили.
Ижбурдин. Нынче вот молодость всеми, сударь, делами завладеть желает. Оно бы и ничего: что ж, если царь в голове есть, да руку себе набил -- действуй на здоровье. Так нет: он все нарохтится тебе с наругательством, да не то чтоб тебя уважить, а пуще в бороду тебе наплевать желает. "Я, говорит, негоциант, а не купец; мы, говорит, из Питера от Руча комзолы себе выписываем -- вот, мол, мы каковы!" Ну-с, отцам-то, разумеется, и надсадно на него смотреть, как он бороду-то себе оголит, да в кургузом кафтанишке перед людьми привередничает. Вот и тянут старики, как бы достояние-то свое тоже зря разбросать. А который не успел умереть, не растративши капиталу, молодцы мигом этому делу подсобят. Так оно и идет все колесом. Вот летось помер у нас купец, так и сынок-от -- что бы вы думали? -- только что успел старика схоронить, первым долгом нализался мертвецки, на завод поехал и перебил тамотка все стекла: "Я, говорит, давно эту мысль в голове держал". Да с тех-то пор и идет у них дебош: то женский пол соберет, в горнице натопит, да в чем есть и безобразничает, или зазовет к себе приказного какого ни на есть ледящего: "Вот, говорит, тебе сто рублев, дозволь, мол, только себя выпороть!" Намеднись один пьянчужка и согласился, да только что они его, сударь, выпустили, он стал в воротах, да и кричит караул. Насилу уж городничий дело сладил, что на пяти стах помирились: "Не хочу, говорит, давай тысячу; у меня, мол, и поличное завсегда при себе". А не то вот выехал он третьёднись пьяный-роспьяный в саночках; сидит себе один да сам и лошадью правит. Да в глазах-то у него, прости господи, видно, черти уж скачут: только едет он один-от, а впереди ему Ванька-кучер показывается; вот он и покрикивает: "пошел, Ванька", "молчать, Ванька подлец"... Подивились мы только в ту пору, как его бог помиловал, что лошадь в прах не расшибла. Все смеются.
Так неужто ж эки-то сорванцы лучше нас, стариков! (К Сокурову.) Так-то вот и ты, паренек, коли будешь родительским благословением брезговать, пойдет на ветер все твое достояние.
Праздношатающийся. Отчего же нибудь да происходит этот разлад между старым и молодым поколением? Воспитание тут, что ли?
Ижбурдин. Какое тут, батюшка, воспитание! Вот он бороду себе выбрил, так разве поэтому только супротив нас лучше будет, а грамота-то и у него не бог весть какая! аз-ангел-ангельский-архангел-архангельский-буки-бабаки... А то еще воспитания захотели! Нет-с, тут, признательно доложить, другого сорта есть причинность. Старые порядки к концу доходят, а новых еще мы не доспелись. Вот-с хошь бы их тятенька; грех сказать, они человек почтенный, а только это сущая истина, что они целовальника-то сожгли да с тех пор и жить зачали. Прежде как мы торговали? Привезет, бывало, тебе мужичок овса кулей десяток или рогожи сот пять, ну, и свалишь, а за деньгами приходи, мол, через неделю. А придет он через неделю -- и знать не знаю, ведать не ведаю, кто ты таков. Уйдет, бедняга, и управы никакой на тебя нет, потому что и градоначальник, и вся подьячая братия твою руку тянет. Таким-то родом и наживали капиталы, а под старость грехи пред богом замаливали. Да опять-таки, даже промеж самих себя простота была: ни счетов, ни книг никаких; по душе всякий торговал -- кто кого, можно сказать, переторгует. (Вздыхает.) Теперь же, сударь, все это, видно, к концу приходит. Не оттого чтобы меньше на этот счет от начальства вольготности для нас было -- на это пожаловаться грех, а так, знать, больше свой же брат, вот этакой-то проходимец кургузый, норовит тебя на весь народ обхаять. Его-то самого общиплют кругом, так он и надеется на стариках сердце сорвать! "Вы, мол, богатеете оттого, что мошенники, а я вот честный, так и бедный"...
Праздношатающийся. Странно, однако ж...
Ижбурдин. Как этакую-то мораль он пустит, так оно и точно, что в оба глядеть станешь... Ну, а ему тоже проку от этого мало: стариков-то он опакостил, а сам выдумать ничего не выдумал. Вот оно и выходит, что старые порядки к концу пришли, а новых мы не доспелись. По той причине, что выдумывать еще мы не горазды, не выросли разума в меру. А приходится, видно, своей головой жить. (К Сокурову.) А ну-ка, паренек, вот ты востёр больно; расскажи-кась нам, как это нам с тобой, в малолетствии без отца-матери век прожить, в чужих людях горек хлеб снедаючи, рукавом слезы утираючи?.. Палахвостов смеется.
Сокуров (с досадой). Известно, мы теперь в руках божиих, по стопам родительским, можно сказать, ходим... Вот другой манер, кабы мы своим капиталом действовали...
Ижбурдин. Эка, подумаешь, приключилась над нами штука! жили мы доселе словно в девичестве, горя не ведали, а теперь во куда дело-то пошло! Поди-ка лет пятнадцать назад, как плывет, бывало, по реке конная-то машина, так и что диву! А ноне выезжай-ко с ней на Волгу-то, всяк норовит тебя оконфузить: "Эхма, говорит, куда-те запропастило; верст, чаи, с десяток, дяденька, в сутки уедешь!" Завелись везде праходы -- просто хошь торговлю бросай, а тут еще об каких-то чугунках твердят! А мы, сударь, этого дела и понять-то не можем, почему как оно для нас вместо забавы. Ну, и овладеют нами немцы заезжие... ин и подлинно светопреставленью скоро быть надоть!..
Сокуров. Тятенька бает, что быть этому делу в 1860 году; ему, вишь, старик какой-то сказывал, с Чердынских пустынь ономнись приходил.
Ижбурдин. Вот, сударь, сами изволите судить, какая тут может статься коммерция, коли мы антихриста с часу на час поджидаем.
Праздношатающийся. Вы представили мне довольно странную картину. Признаюсь вам даже, я мало тут что-нибудь понимаю. С одной стороны, старая система торговли, основанная, как вы говорили сами, на мошенничестве и разных случайностях, далее идти не может; с другой стороны, устройство путей сообщения, освобождение торговли от стесняющих ее ограничений, по вашим словам, неминуемо повлечет за собой обеднение целого сословия, в руках которого находится в настоящее время вся торговля... Как согласить это? как помочь тут?
Ижбурдин. А кто его знает! мы об таком деле разве думали? Мы вот видим только, что наше дело к концу приходит, а как оно там напредки выдет -- все это в руце божией... Наше теперича дело об том только думать, как бы самим-то нам в мире прожить, беспечальну пробыть. (Встает.) Одначе, мы с вашим благородием тутотка забавляемся, а нас, чай, и бабы давно поди ждут... Прощенья просим. Все встают и уходят.
СЦЕНА II
Праздношатающийся (в раздумье). Чего он мне тут нагородил, ничего и не поймешь!.. ба! мысль! (вынимает из кармана записную книжку и пишет) мошенничество... обман... взятки... невежество... тупоумие... общее безобразие!.. что выйдет, не знаем, а подадим горячо!
СКУКА
"Скучно! крупные капли дождя стучат в окна моей квартиры; на улице холодно, темно и грязно; осень давно уже вступила в права свои, и какая осень! Безобразная, гнилая, с проницающею насквозь сыростью и вечным туманом, густою пеленой встающим над городом...
Свеча уныло и как-то слепо освещает комнату; обстановка ее бедна и гола: дюжина стульев базарной работы да диван, на котором жутко сидеть, -- вот и все. Как хотите, а комфорт славная вещь! Вот теперь бы мягкое кресло, да камин, да хорошую сигару -- забыл бы и грязь и дождь. Воображение разгорелось бы, представило бы картинки заманчивого свойства; в струйках сигарочного дыма показались бы нимфы, генеральские эполеты, звезды, груды золота, общее уважение и так далее; одним словом, все, что только может вместить в себе тонкая струйка табачного дыма... А потом? потом сон, сладкий сон наложил бы на все это свою всесильную руку; полногрудые нимфы пустились бы в обольстительнейший танец с генеральскими эполетами, звезды -- с общим уважением; одни груды золота остались бы по-прежнему неподвижны, иронически посматривая на всю эту суматоху.
А сон великое дело, особливо в Крутогорске. Сон и водка -- вот истинные друзья человечества. Но водка необходима такая, чтобы сразу забирала, покоряла себе всего человека; что называется вор-водка, такая, чтобы сначала все вообще твои суставчики словно перешибло, а потом изныл бы каждый из них в особенности. Такая именно водка подается у моего доброго знакомого, председателя. Носятся слухи, будто бы и всякий крутогорский чиновник имеет право на получение подобной водки. Нужно справиться: нет ничего мудреного, что коварный откупщик употребляет во зло мою молодость и неопытность.
Странная, однако ж, вещь! Слыл я, кажется, когда-то порядочным человеком, водки в рот не брал, не наедался до изнеможения сил, после обеда не спал, одевался прилично, был бодр и свеж, трудился, надеялся, и все чего-то ждал, к чему-то стремился... И вот в какие-нибудь пять лет какая перемена! Лицо отекло и одрябло; в глазах светится собачья старость; движения вялы; словесности, как говорит приятель мой, Яков Астафьич, совсем нет... скверно!
И как скоро, как беспрепятственно совершается процесс этого превращения! С какою изумительною быстротой поселяется в сердце вялость и равнодушие ко всему, потухает огонь любви к добру и ненависти ко лжи и злу! И то, что когда-то казалось и безобразным и гнусным, глядит теперь так гладко и пристойно, как будто все это в порядке вещей, и так ему и быть должно.
Это примирение совершается вообще очень просто. Оглядишься вокруг себя, всмотришься в окружающих людей, и поневоле сознаешь, что все они, право, недурные ребята. Они не глупы -- и это первый пункт; они гостеприимны и общежительны, а стало быть, и добры -- это второй пункт; они бедны и сверх того снабжены семействами, и потому самое чувство самосохранения вынуждает их заботиться о средствах к существованию, каковы бы ни были эти средства, -- это третий пункт. Рассудок без труда принимает эти причины и удовлетворяется ими. Ибо что сказать против них? Как бы вы ни были красноречивы, как бы ни были озлоблены против взяток и злоупотреблений, вам всегда готов очень простой ответ: человек такое животное, которое, без одежды и пищи, ни под каким видом существовать не может. Понятно? следовательно...
Отчего же, несмотря на убедительность этих доводов, все-таки ощущается какая-то неловкость в то самое время, когда они представляются уму с такою ясностью? Несомненно, что эти люди правы, говорите вы себе, но тем не менее действительность представляет такое разнообразное сплетение гнусности и безобразия, что чувствуется невольная тяжесть в вашем сердце... Кто ж виноват в этом? Где причина этому явлению?
-- В воздухе, -- отвечает мне искреннейший мой друг, Яков Петрович, тот самый, который изобрел хвецов и мазь для ращения конских волос на человеческих головах.
В воздухе! да не может же быть, чтоб весь воздух был до такой степени заражен гнилыми миазмами, чтоб не было никаких средств очистить его от них. Прочь их, эти испарения, которые не дают дохнуть свободно, которые заражают даже самого здорового человека!
-- Э, батюшка, нам с вами вдвоем всего на свой лад не переделать! -- отвечает мне тот же изобретатель растительной мази, -- а вот лучше выпьем-ка водочки, закусим селедочкой да сыграем пулечку в вистик: печаль-то как рукой снимет!
Ну, и выпьем...
Сегодня утром принес ко мне секретарь бумагу. Надо, говорит, затребовать по ней дополнительных сведений.
-- Да зачем же их требовать? ведь они все есть у вас под руками?
-- Есть-с.
-- Так что же?
-- Да помилуйте, за что ж я опять под ответственность попасть должен?
-- Как под ответственность?
-- Да точно так-с. Теперь конец месяца, а сами вы изволите помнить, что его высокородие еще в прошлом месяце пытал меня бранить за то, что у меня много бумаг к отчетности остается, да посулил еще из службы за это выгнать. Ну, а если мы эту бумагу начнем разрешать, так разрешим ее не раньше следующего месяца, а дополнительных-то сведений потребуешь, так хоть и не разрешена она досконально, а все как будто исполнена: его высокородие и останутся довольны.
Нечего делать, исполнил по желанию Ивана Никитича: не попадать же ему, в самом деле, под ответственность из-за какой-то непонятной щепетильности.
-- Это уж у них, у канальев, так исстари заведено, -- отвечал мне Яков Петрович, когда я рассказал ему этот анекдот, -- этого, батюшка, нам с вами и селитряною кислотой не вывести!
Выпили мы по рюмочке, и подлинно, я прозрел.
А всему виной моя самонадеянность... Я думал, в кичливом самообольщении, что нет той силы, которая может сломить энергию мысли, энергию воли! И вот оказывается, что какому-то неопрятному, далекому городку предоставлено совершить этот подвиг уничтожения. И так просто! почти без борьбы! потому что какая же может быть борьба с явлениями, заключающими в себе лишь чисто отрицательные качества?
А мне ли не твердили с детских лет, что покорностью цветут города, благоденствуют селения, что она дает силу и крепость недужному на одре смерти, бодрость и надежду истомленному работой и голодом, смягчает сердца великих и сильных, открывает двери темницы забытому узнику... но кто исчислит все твои благодеяния, все твои целения, о матерь всех доблестей?
-- Загляните в скрижали истории, -- говаривал мне воспитатель мой, студент т -- ской семинарии, -- загляните в скрижали истории, и вы убедитесь, что тот только народ благоденствует и процветает, который не уносится далеко, не порывается, не дерзает до вопроса. Процветают у него искусства и науки; конечно, и те и другие составляют достояние только немногих избранных, но он, погруженный в невежество, не знает, как налюбоваться, как нагордиться тем, что эти избранные -- граждане его страны: "Это, -- говорит он, -- мои искусства, мои науки!" Произведения его фабрик, его промышленности первенствуют на всех рынках; нет нужды, что он сам одет в рубище: он видит только, что его торговля овладела целым миром, все ему удивляются, все завидуют, и вот, в порыве законной гордости, он восклицает: "О, какой я богатый, довольный и благоденствующий народ!"
Посмотрите на этого юношу: он только что сошел с школьной скамьи; вид его скромен, щеки розовы, поступь плавна и благонравна, глаза опущены вниз... Он получил чудесный аттестат от своих наставников и воспитателей; успехи его были отличные, нравственность беспримерная; нет того балла, нет той цифры, которою можно было бы выразить удовольствие начальников. Где же ключ ко всему этому? где, как не в том, что этот юноша -- покорный юноша? Он беспрекословно выучивал наизусть заданные странички, от "мы прошлый раз сказали" до "об этом мы скажем в следующий раз"; он аккуратно в девять часов снимал с себя курточку, и хотя не всегда имел желание почивать, но, во всяком случае, благонравно закрывал глазки и удерживал свое ровненькое дыханьице, чтобы оно как-нибудь не оскорбило деликатного слуха его наставника... О, это преблаговоспитанненькое дитя, самое покорненькое дитя на свете! Для него не существовало ни стола, ни стула, ни книги, а было: "стульчик", "столик", "книжечка"; он никогда не бегал, не суетился, его не видали ни распотевшим, ни раскрасневшимся... В глазах его, правда, не видно блеску, не видно огня молодости... но зато какая покорность! Боже, какая покорность! О, дайте мне расцеловать его, дайте обнять его, это милое, покорное дитя!
Но вот он сделался чиновником; с каким вниманием, с каким простодушием выслушивает он наставления начальника и благодетеля! Как удивляется его проницательности, глубокомыслию, обширности взгляда! Не недостойный ли, не презренный ли он сосуд... извините сосудик! -- и между тем его считают достойным -- да, достойным! -- вмещать в себе все премудрости бюрократии! И зато с каким трепетом берет он в руки бумажку, очинивает ножичком перышко, как работает его миниятюрное воображеньице, как трудится его крохотная мысль, придумывая каждое слово, каждое выраженьице замысловатого отношеньица, в котором должны быть умещены громаднейшие помыслы, величайшие начинания, необъятнейшие планы!
-- Главное дело, будь краток, -- говорит ему начальник, -- только в выражении чувств преданности и покорности краткость неприлична и даже вредна; во всем же прочем краткость, краткость и краткость!
И он слепо следует этому наставлению: излагает дело кратко, почитает плодовито. И после этого можно ли изумляться, что этот маленький, чистенький, усердненький чиновничек делается в свою очередь источником помыслов, начинаний и планов!
Нет, покорность не значит подлость, не значит искательство и низкопоклонничество, не значит слабоумие и апатия; покорность не наушничество, не лукавство исподтишка, не лицемерие... Это особая, своеобразная добродетель, с помощью которой человек многое выигрывает и ровно ничего не проигрывает.
Теперь все эта представляется мне ясно, как дважды два; странно даже, как я когда-нибудь мог мыслить иначе.
Когда я ехал в Крутогорск, то мне казалось, что и я должен на деле принесть хоть частичку той пользы, которую каждый гражданин обязан положить на алтарь отечества. Думалось мне, что в самой случайности, бросившей меня в этот край, скрывается своего рода предопределение... Юношеские мечты! тщетные мечты! сколько в них, однако ж, свежести и чистоты, сколько жажды добра и истины!
Что же я сделал, какие подвиги совершил?
О провинция! ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать! Ибо можно ли называть желаниями те мелкие вожделения, исключительно направленные к материяльной стороне жизни, к доставлению крошечных удобств, которые имеют то неоцененное достоинство, что устраняют всякий повод для тревог души и сердца? Какая возможность развиваться, когда горизонт мышления так обидно суживается, какая возможность мыслить, когда кругом нет ничего вызывающего на мысль? Когда человек испытывает горькую нужду, когда вместе с тем все вокруг него свидетельствует о благах жизни, все призывает к ней, тогда нет возможности не пробуждаться даже самой сонной натуре. Воображение работает, самолюбие страждет, зависть кипит в сердце, и вот совершаются те великие подвиги ума и воли человеческой, которым так искренно дивится покорная гению толпа. Что нужды, что подготовительные работы к ним смочены слезами и кровавым потом; что нужды, что не одно, быть может, проклятие сорвалось с уст труженика, что горьки были его искания, горьки нужды, горьки обманутые надежды: он жил в это время, он ощущал себя человеком, хотя и страдал...
Да; жалко, поистине жалко положение молодого человека, заброшенного в провинцию! Незаметно, мало-помалу, погружается он в тину мелочей и, увлекаясь легкостью этой жизни, которая не имеет ни вчерашнего, ни завтрашнего дня, сам бессознательно делается молчаливым поборником ее. А там подкрадется матушка-лень и так крепко сожмет в своих объятиях новобранца, что и очнуться некогда. Посмотришь кругом: ведь живут же добрые люди, и живут весело -- ну, и сам станешь жить весело.
О, вы, которые живете другою, широкою жизнию, вы, которых оставляют жить и которые оставляете жить других, -- завидую вам! И если когда-нибудь придется вам горько и вы усомнитесь в вашем счастии, вспомните, что есть иной мир, мир зловоний и болотных испарений, мир сплетен и жирных кулебяк -- и горе вам, если вы тотчас не поспешите подписать удовольствие вечному истцу вашей жизни -- обществу!
А все-таки странно, что я сегодня целый вечер сижу дома и один. Где бы они могли быть все? у Порфирия Петровича -- не может быть: он так мил и любезен, что всегда меня приглашает; Александр Андреич тоже души во мне не слышит: "Ты, говорит, только проигрывай, а то хоть каждый день приезжай".
Верно, у князя Льва Михайловича! Странный человек этот князь! Рассердился на меня не на шутку за то, что я выразился, якобы он, в удобное для охоты время, командирует своего секретаря, под видом дел службы, собственно для стреляния дичи к столу его сиятельства. "Что ж, говорит, тут дурного? разве это взятка? вы мне скажите, взятка ли это? Разве я вымогал, сделал какую-нибудь подлость, разве это деньги? Деньги ли дичь, спрашиваю я вас? и имел ли он право, этот молокосос, осуждать действия начальства, подрывать доверие к нему, он, который каждое воскресенье обедает у меня?" Князь вообще знаменит строгостью своей логики, и Порфирий Петрович очень смеялся, рассказывая мне про негодование его сиятельства.
Вообще я знаю очень много примеров подобного рода логики. Есть у меня приятель судья, очень хороший человек. Пришла к нему экономка с жалобой, что такой-то писец ее изобидел: встретившись с ней на улице, картуза не снял. Экономка -- бабенка здоровая, кровь с молоком; судья человек древний и экономок любит до смерти. Подать сюда писца.
-- Ты по какому это праву не поклонился Анисье?
-- Да помилуйте, ваше высокоблагородие...
-- Нет, ты отвечай, по какому ты праву не поклонился Анисье?
-- Да помилуйте, ваше высокоблагородие...
-- Ты мне говори: отвалятся у тебя руки? а? отвалятся?
-- Да помилуйте, ваше высокоблагородие...
-- Нет, ты не вертись, а отвечай прямо: отвалятся у тебя руки или нет?
La question ainsi carrХment posХe [На вопрос, так прямо поставленный (франц.)], писец молчит и переминается с ноги на ногу. Приятель мой -- во всем блеске заслуженного торжества.
-- Что ж ты молчишь? ты говори: отвалятся или нет?
-- Нет, -- отвечает подсудимый с каким-то злобным шипеньем.
-- Ну, следственно...
И логика, как и всегда, осталась победительницею анархии.
А может быть, "они" и у доктора. Милейший человек этот доктор и преостроумный. Когда придет к нему крестьянин или мещанин "за своею надобностью" или проще по рекрутской части и принесет все нужные по делу документы, он никогда сразу не начнет дела, а сначала заставит просителя побожиться пред образом, что других документов у него нет, и когда тот побожится, "чтоб и глаза-то мои лопнули" и "чтоб нутро-то у меня изгнило", прикажет ему снять сапоги и тщательно осмотрит их. Понеже научен доктор долголетним опытом и практикою, что у мужика сапоги все одно что ломбард.
"И за всем тем доктор предрагоценный человек. Выпить ли, сыграть ли в "любишь не любишь" -- на все это он именно душа. Особливо как на ту пору подойдет рекрутский набор.
.....................................
Были, однако ж, и у меня иные времена, окружали меня иные люди -- все иное! Были глубокие верования, горячие убеждения, была страсть к добру... куда все это девалось?
Где-то вы, друзья и товарищи моей молодости? Ведете ли, как и я, безрадостную скитальческую жизнь или же утонули в отличиях, погрязли в почестях и с улыбкой самодовольствия посматриваете на бедных тружеников, робко проходящих мимо вас с понуренными головами? Многие ли из вас бодро выдержали пытку жизни, не смирились перед гнетущею силою обстоятельств, не прониклись духом праздности, уныния и любоначалия?
Господи! неужели нужно, чтоб обстоятельства вечно гнели и покалывали человека, чтоб не дать заснуть в нем энергии, чтобы не дать замереть той страстности стремлений, которая горит на дне души, поддерживаемая каким-то неугасаемым огнем? Ужели вечно нужны будут страдания, вечно вопли, вечно скорби, чтобы сохранить в человеке чистоту мысли, чистоту верования?
Помню я и долгие зимние вечера, и наши дружеские, скромные беседы, заходившие далеко за полночь. Как легко жилось в это время, какая глубокая вера в будущее, какое единодушие надежд и мысли оживляло всех нас! Помню я и тебя, многолюбимый и незабвенный друг и учитель наш! Где ты теперь? какая железная рука сковала твои уста, из которых лились на нас слова любви и упования?
И отчего все эти воспоминания так ясно, так отчетливо воскресают передо мной, отчего сердцу делается от них жутко, а глаза покрываются какою-то пеленой? Ужели я еще недостаточно убил в себе всякое чувство жизни, что оно так назойливо напоминает о себе, и напоминает в такое именно время, когда одно представление о нем может поселить в сердце отчаяние, близкое к мысли о самоубийстве!
.....................................
А потом фантазия незаметно переносит меня к далеким временам моего детства. Встают передо мной и сельский наш дом, и тополи в саду, и церкови на небольшом пригорке, и фруктовый сад, о котором мы, дети, говорили не иначе, как "тот сад", потому что он был разведен особняком от усадьбы и потому что нас пускали в него весьма редко. И как тихо становилось во всем доме по субботам, после всенощной, когда священник, окропив святою водой все комнаты и дав всем нам благословение, уходил домой! Говор и шум умолкали и в девичьей, и в детской, и везде, где в течение дня было так суетливо и людно; все как будто сосредоточивалось и углублялось в себя; все ждало грядущего праздника...
Помню я и школу, но как-то угрюмо и неприветливо воскресает она в моем воображении... Нет, я сегодня настроен так мягко, что все хочу видеть в розовом свете... прочь школу! "Но отчего же вдруг будто дрогнуло в груди моей сердце, отчего я сам слышу учащенное биение его?
Там, вдали, вижу я, мелькают два серенькие платьица... Боже! да это они, они, мои девочки, с их звонким смехом, с их непринужденною веселостью, с их вьющимися черными локонами! Как хороши они и сколько зажгли сердец, несмотря на свои четырнадцать только лет: они еще носят коротенькие платьица, они могут еще громко говорить, громко смеяться; им не воспрещены еще те несколько резкие, угловатые движения, которые придают такой милый, оригинальный смысл каждому их слову! Но в особенности вы, моя маленькая, миленькая Бетси, вы, радость и утешение всего живущего, волнуете всю кровь в молодом человеке, изо всех сил устремляющемся к вам... Но что же я вижу? Кажется, и вы покраснели и даже чуть-чуть не споткнулись на ровном месте; и у вас зажглись глазки, и вся ваша миниятюрная фигурка внезапно приняла какой-то томный и немного ленивый характер?
То была первая, свежая любовь моя, то были первые сладкие тревоги моего сердца! Эти глубокие серые глаза, эта кудрявая головка долго смущали мои юношеские сны. Все думалось. "Как хорошо бы погладить ее, какое бы счастье прильнуть к этим глазкам, да так и остаться там жить!"
Вокруг меня мгла и туман; Порфирии Петровичи, Яковы Астафьичи, Федоры Герасимычи жадно простирают ко мне голодные руки и не дают мне дохнуть...
Где я, где я, господи!"
ПРАЗДНИКИ
ЕЛКА
На дворе очень холодно; мороз крепко сковал и угладил дорогу и теперь что есть мочи стучится в двери и окна мирных обитателей Крутогорска. Наступил уж вечер, и на улицах стало пустынно и тихо. Полный месяц глядит с заоблачных высот, глядит добродушно и весело, и светит так ясно, что на улицах словно день стоит. Бежит вдали маленькая лошадка, бойко неся за собою санки с сидящим в них губернским аристократом, поспешающим на званый вечер, и далеко разносится гул от ее копыт. В окнах большей части домов зажигаются огни, которые сначала как-то тускло горят, а потом мало-помалу разрастаются в великолепные иллюминации. Я иду по улице и, всматриваясь в окна, вижу целые снопы света, около которых снуют взад и вперед милые головки детей... "Ба! да ведь сегодня сочельник!" -- восклицаю я мысленно.
Просвещение проникает все более и более на восток, благодаря усердию господ чиновников, которые препоясали себя на брань с варварством и невежеством. Не знаю, имеется ли елка в Туруханске, но в Крутогорске она во всеобщем уважении -- это факт для меня несомненный. По крайней мере, чиновники, которые в Крутогорске плодятся непомерно, считают непременною обязанностью купить на базаре елку и, украсив ее незатейливыми сюрпризами домашнего приготовления, презентовать многочисленным Ванечкам, Машенькам, а иногда и просто Ванькам и Машкам.
Иду я по улице и поневоле заглядываю в окна. Там целые выводки милых птенцов, думаю я, там любящая подруга жизни, там чадолюбивый отец, там так тепло и уютно... а я! Я один как перст в целом мире; нет у меня ни жены, ни детей, нет ни кола ни двора, некому ни приютить, ни приголубить меня, некому сказать мне "папасецка", некому назвать меня "брюханчиком"; в квартире моей холодно и неприветно. Гриша вечно сапоги чистит или папиросы набивает... Господи, как скучно!
И я как-то инстинктивно останавливаюсь перед каменными хоромами одного крутогорского негоцианта, выписывающего себе "камзолы" от Руча. И тут тоже елка, отличающаяся от чиновничьих только тем, что богаче изукрашена и что по поводу ее присутствует в доме многочисленное стечение как большого, так и малого люда. В пространной зале горит это милое дерево, которое так сладко заставляет биться маленькие сердца. Я застаю еще ту минуту, когда дети чинно расхаживают по зале, только издалека посматривая на золотые яблоки и орехи, висящие в изобилии на всех ветвях, и нетерпеливо выжидая знака, по которому елка должна быть отдана им на разграбление. В боковой комнате присутствуют взрослые мужчины; несмотря на то что на соборной колокольне только что пробило шесть часов, круглый стол, стоящий перед диваном, ломится под тяжестью закусок и фиалов с водкой и тенерифом. В Крутогорске это называется "не терять золотых мгновений", и господа негоцианты действительно не теряют их, потому что я вижу их беспрерывно подступающих к круглому столу и, разумеется, не за тем, чтоб проводить время праздно. В зале владычествует хозяйка; в гостиной -- хозяин. Я вижу его с улицы, подходящего даже к знакомому мне сидельцу, который скромно стоит у окна, заложивши руки назад и не осмеливаясь присесть при "хозяевах". Хозяин, простирая длань по направлению к закуске, скачала словесно уговаривает его вкусить от плода хлебного, но сиделец, как видно, оказывает сопротивление, потому что негоциант берет его за руку и силой подводит к столу.
Но покуда я занимаюсь наблюдениями над взрослою компанией, рядом со мной незаметно становится другой наблюдатель, в лице маленького и шустрого мальчугана, который подскакивает с ноги на ногу в своем дубленом полушубке.
-- Чай, скоро и рушить начнут! -- беззастенчиво обращается он ко мне.
И снова начинает подплясывать на одном месте, изо всех своих детских сил похлопывая ручонками, закоченевшими на морозе.
-- Вона, вона! ишь как Оську-то задрали! -- продолжает он как будто про себя.
Я смотрю внимательнее в окно и вижу, что действительно какие-то два мальчика подрались, и один из них, как должно полагать но его оскорбленному лицу, испускает пронзительнейшие стоны.
-- Ты знаешь этого мальчика? -- спрашиваю я моего маленького товарища.
-- Это Оська рядский, -- отвечает он мне, -- ишь раззевался, смерд этакой! Я бы те не так еще угостил!
-- А тот мальчик, который прибил Оську?
-- Это сын ихнего хозяина, он завсегда его так бьет, -- отвечал он, всхлипывая от смеха, -- намеднись песком так глаза засорил, что насилу отмыли... Эка нюня несообразная! -- прибавил он с каким-то презрением, видя, что Оська не унимается.
Около обиженного мальчика хлопотала какая-то женщина, в головке и одетая попроще других дам. По всем вероятиям, это была мать Оськи, потому что она не столько ублажала его, сколько старалась прекратить его всхлипыванья новыми толчками. Очевидно, она хотела этим угодить хозяевам, которые отнюдь не желали, чтоб Оська обижался невинными проказами их остроумных деточек. Обидчик между тем, пользуясь безнаказанностию, прохаживался по зале, гордо посматривая на всех.
-- Вот кабы этакая-то елка... -- задумчиво произнес мой собеседник.
Вероятно, он хотел сказать "у нас", но остановился, не докончив фразы, как это часто бывает с детьми, когда они о чем-нибудь серьезно задумаются.
-- Вона! вона! рушат! ломают! -- вскричал он вдруг таким неестественным голосом, что я вздрогнул. -- Ах ты батюшки! смотри-ка, Оська-то, Оська-то!
В окнах действительно сделалось как будто тусклее; елка уже упала, и десятки детей взлезали друг на друга, чтобы достать себе хоть что-нибудь из тех великолепных вещей, которые так долго манили собой их встревоженные воображеньица. Оська тоже полез вслед за другими, забыв внезапно все причиненные в тот вечер обиды, но ему не суждено было участвовать в общем разделе, потому что едва завидел его хозяйский сын, как мгновенно поверг несчастного наземь данною с размаха оплеухой.
Началась прежняя сцена увещеванья и колотушек, и мне сделалось невыносимо тяжко.
-- Я бы еще не так тебе рожу-то насалил! -- произнес мой товарищ с звонким хохотом, радуясь претерпенному Оськой поражению.
-- Отчего ты не любишь Оську? -- спросил я.
-- А пошто его любить-то! вишь, как он нюни распустил... козявка этакая!
-- А если б тебя так прибили?
-- Ну, это, видно, после дождичка в четверг будет! я сам сдачи не займую. А вот, ей-богу, я здесь останусь... хошь из-за угла эту плаксу шарахну.
Однако он не остался и, простояв еще несколько минут, с глубоким и сосредоточенным вздохом стал отходить от окна. Я тоже пошел с ним рядом.
-- Да ты чей? -- спросил я.
-- Кузнеца Потапыча сын.
Я знаю Потапыча, потому что он кует и часто даже заковывает моих лошадей. Потапыч старик очень суровый, но весьма бедный и живущий изо дня в день скудными заработками своих сильных рук. Избенка его стоит на самом краю города и вмещает в себе многочисленную семью, которой он единственная поддержка, потому что прочие члены мал мала меньше.
-- А ведь тебе далеконько идти, -- говорю я.
-- Ничего-таки, будет! только вот тятька беспременно заругает.
-- За что?
-- А я еще утрось из дому убег, будто в ряды, да вот и не бывал с тех самых пор... то есть с утра с раннего, -- прибавил он, и вдруг, к величайшему моему изумлению, пискливым дискантом запел: -- "На заре ты ее не буди..."
-- Кто тебя научил этой песне?
-- А что, песня важнецкая! наш учитель приходский только и дела, что мурлычет ее.
-- Неужто ты с самого утра по городу шатаешься?
-- А то нет? сказано: с утра раннего... неужто ж пропустить экой праздник!
-- А дома у вас разве нет елки?
-- Какая елка! У нас и хлеба поди нет... чем еще разговеемся завтра!
Имея душу чувствительную, я вдруг проникаюсь состраданием к бедному мальчику, которому, может быть, завтра разговеться нечем. Если я чему-нибудь в мире завидовал, то это именно положению герцога Герольштейна, который, не щадя, можно сказать, своей изнеженной особы, заходил в tapis francs [притоны (франц.)] и запанибрата разговаривал с шуринёрами. Но Крутогорск не представляет никакого поприща для моей филантропической деятельности, и я тщетно ищу в нем Fleur-de-Marie, потому что проходящие мимо меня мещанки видом своим более напоминают тех полногрудых нимф, о которых говорит Гоголь, описывая общую залу провинцияльной гостиницы. Мысленный взор мой внезапно устремляется на бегущего рядом со мною мальчугана, и я начинаю видеть в нем достаточную жертву для своих благотворительных затей.
-- Хочешь ко мне пойти? -- спрашиваю я мальчика. Он вопросительно смотрит мне в глаза.
-- Я тебе пряников дам, -- продолжаю я.
-- Мне что пряники! -- говорит он, -- я, пожалуй, и вино пью.
Такая откровенность и столь раннее развитие несколько смущают меня; но я дал себе слово провести этот вечер не одиноко и настойчиво преследую свою цель.
-- Что ж, я и вина дам, -- говорю я.
Мальчуган с минуту колеблется, но потом беспрекословно следует за мной.
Нас встречает Гриша, которому тоже, вероятно, скучно сидеть одному, потому что он злобно смотрит то на меня, то на мальчишку.
-- Это еще кого привели? -- сердито ворчит он.
Надо сказать, что я несколько трушу Гриши, во-первых, потому, что я человек чрезвычайно мягкий, а во-вторых, потому, что сам Гриша такой бесподобный и бескорыстный господин, что нельзя относиться к нему иначе, как с полным уважением. Уже дорогой я размышлял о том, как отзовется о моем поступке Гриша, и покушался даже бежать от моего спутника, но не сделал этого единственно по слабости моего характера.
-- Есть у нас пряники, Гриша? -- спрашиваю я.
-- Какие у нас пряники! разве к нам мужики ходят? К нам, сударь, большие господа ездят! -- говорит он мне в виде поучения, как будто хочет дать мне почувствовать: "Эх ты, простота! не знаешь сам, кто у тебя бывает!"
-- Ну, нет ли хоть яблок, винограду? -- говорю я, несколько смущенный.
-- Этому-то слюняю я винограду дам? -- восклицает Гриша, вытаращив на меня глаза, и, перевернувшись всем корпусом, быстро удаляется в переднюю, причем сильно хлопает дверью.
Мальчуган смотрит на меня и тихонько посмеивается. Я нахожусь в замешательстве, но внутренно негодую на Гришу, который совсем уж в опеку меня взял. Я хочу идти в его комнату и строгостью достичь того, чего не мог достичь ласкою, но в это время он сам входит в гостиную с тарелкой в руках и с самым дерзким движением -- не кладет, а как-то неприлично сует эту тарелку на стол. На ней оказывается большой кусок черного хлеба, посыпанный густым слоем соли.
-- Будет с него, что и хлеба полопает, не велик барин! -- говорит Гриша, -- а то еще винограду выдумали!
-- Однако принеси же, братец, яблок и винограду, если я этого требую, -- говорю я твердым голосом и не роняя своего достоинства.
-- Да и вина уж кстати подай, холоп! -- прибавляет от себя мальчуган, который взлез между тем на диван и уселся на нем с ногами.
-- Ах ты мозглец ты этакой! -- кричит Гриша, взволнованный самоуверенным видом маленького наглеца, -- ишь ты, скажите на милость! на диван с ногами въехал! брысь, слякоть!
Мне самому и смешно и досадно, но я решаюсь выдержать характер.
-- Я тебе сказал, принеси винограду и яблок, -- говорю я, возвышая голос.
-- Ну, что же! -- отвечает Гриша, -- пожалуй! заставляйте меня всякой козявке служить! известно, вы господа, а мы холопы!
Я вижу, что самолюбие моего дядьки страдает, и спешу успокоить его.
-- Да и ты с нами посидишь, Гриша; знаешь, завтра праздник какой!
Чело его при слове "праздник" действительно разглаживается, и я вижу, что прихоть моя будет исполнена.
Через пять минут являются на столе яблоки и виноград и бутылки тенерифа, того самого, от которого и жжет и першит в горле. Мальчуган, минуя сластей, наливает рюмку вина и залпом выпивает ее.
-- Ишь шельмец какой! -- замечает Гриша.
Я всматриваюсь между тем в мальчика. Лицо его очень подвижно и дышит сметкою и дерзостью; карие и, должно быть, очень зоркие глаза так быстры, что с первого взгляда кажутся разбегающимися во все стороны; он очень худощав, и все черты лица его весьма мелки и остры; самая кожа, тонкая и нежная, ясно говорит о чрезвычайной впечатлительности и восприимчивости мальчугана. Я вижу, что он начинает нравиться даже Грише, потому что тот, поглядывая на него, изредка проговаривается: "Ишь постреленок!", что доказывает, что он находится в хорошем расположении духа.
-- Что ж ты не берешь яблок? -- спрашиваю я.
-- На что мне?.. Разве сестрам взять?
-- А много у тебя сестер?
-- А кто их знает? я не считал...
-- Ишь пострел! -- отзывается Гриша.
-- Как же они теперь праздник встречают?
-- Спят, чай... Намеднись тятька приговаривался, что свинью убить надо...
-- Ну, а велики ли у тебя сестры?
-- Одна есть большая, а другие -- мелюзга.
-- И мать у вас есть?
-- Как же! этого добра где не водится! только, надо быть, тятенька ей скоро конец сделает... больно уж он ноне зашибаться зачал -- это, пожалуй, и не ладно уж будет!
-- За что ж он ее бьет?
-- За что бьет! пришла -- не так, и ушла -- не так! вот и бьет!
Мне становится грустно; я думал угостить себя чем-нибудь патриархальным, и вдруг встретил такую раннюю испорченность. Мальчишка почти пьян, и Гриша начинает смотреть на него как на отличную для себя потеху.
-- Вели закладывать поскорее лошадей, -- говорю я Грише.
-- А что-с! видно, наскучили мы вашему благородию? -- спрашивает мальчуган.
-- Скажи, пожалуйста, откуда ты выучился называть меня "благородием"? откуда перенял все эти романсы?
-- НХшто мы образованного опчества не знаем?
-- Скажите на милость! тоже об образовании заговорил! -- удивляется Гриша.
Через четверть часа докладывают, что лошади готовы, и я остаюсь один. Мне ужасно совестно перед самим собою, что я так дурно встретил великий праздник. Зато Гриша очень весел и беспрестанно смеется, приговаривая: "Ах ты постреленок этакой!" Я уверен, что в сердце его не осталось ни тени претензий на меня и что, напротив, он очень мне благодарен.
Я ложусь спать, но и во сне меня преследует мальчуган, и вместе с тем какой-то тайный голос говорит мне: "Слабоумный и праздный человек! ты праздность и вялость своего сердца принял за любовь к человеку, и с этими данными хочешь найти добро окрест себя! Пойми же наконец, что любовь милосердна и снисходительна, что она все прощает, все врачует, все очищает! Проникнись этою деятельною, разумною любовью, постигни, что в самом искаженном человеческом образе просвечивает подобие божие -- и тогда, только тогда получишь ты право проникнуть в сокровенные глубины его души!"
Душа моя внезапно освежается; я чувствую, что дыханье ровно и легко вылетает из груди моей... "Господи! дай мне силы не быть праздным, не быть ленивым, не быть суетным!" -- говорю я мысленно и просыпаюсь в то самое время, когда веселый день напоминает мне, что наступил "великий" праздник и что надобно скорее спешить к обедне.
"ХРИСТОС ВОСКРЕС!"
Скажите мне, отчего в эту ночь воздух всегда так тепел и тих, отчего в небе горят миллионы звезд, отчего природа одевается радостью, отчего сердце у меня словно саднит от полноты нахлынувшего вдруг веселия, отчего кровь приливает к горлу, и я чувствую, что меня как будто поднимает, как будто уносит какою-то невидимою волною?
"Христос воскрес!" -- звучат колокола, вдруг загудевшие во всех углах города; "Христос воскрес!" -- журчат ручьи, бегущие с горы в овраг; "Христос воскрес!" -- говорят шпили церквей, внезапно одевшиеся огнями; "Христос воскрес!" -- приветливо шепчут вечные огни, горящие в глубоком, темном небе; "Христос воскрес!" -- откликается мне давно минувшее мое прошлое.
Я еще вчера явственно слышал, как жаворонок, только что прилетевший с юга, бойко и сладко пропел мне эту славную весть, от которой сердце мое всегда билось какою-то чуткою надеждой. Я еще вчера видел, как добрая купчиха Палагея Ивановна хлопотала и возилась, изготовляя несчетное множество куличей и пасх, окрашивая сотни яиц и запекая в тесте десятки окороков.
-- Куда вам такое множество куличей, Палагея Ивановна? -- спросил я ее.
-- И, батюшка, все изойдет для "несчастненьких"! -- отвечала она, набожно осеняя себя крестным знамением.
Ужасно люблю я Палагею Ивановну. Это именно почтеннейшая женщина! "Несчастненькими" она называет арестантов и, кажется, всю жизнь свою посвятила на то, чтоб как-нибудь усладить тесноту и суровость их заключения. Она не спрашивает, кто этот арестант, которому рука ее подает милостыню Христовым именем: разбойник ли он, вор или просто "прикосновенный". В глазах ее все они просто "несчастненькие", и вот каждый воскресный день отправляются из ее дома целые вязки калачей, пуды говядины или рыбы, и "несчастненькие" благословляют имя Палагеи Ивановны, зовут ее "матушкой" и "кормилицей"... И я того мнения, что если кто-нибудь на сем свете заслужил царствие небесное, то, конечно, Палагея Ивановна больше всех.
Еще вчера свечеру я чувствовал, что в городе делалось что-то необычайное. В половине двенадцатого во всех окнах забегали огни, и вслед за тем потянулся по всем улицам народ, и застучали разнородные экипажи крутогорской аристократии.
И я тоже с каким-то особенным, давно непривычным мне чувством радости выслушал утреню и вышел из церкви, вынося с собою безотчетное и светлое чувство дружелюбия, милосердия и снисхождения.
"Христос воскрес!" -- думал я. -- Он воскрес для всех; большие и малые, иудеи и еллины, пришедшие рано и пришедшие поздно, мудрые и юродивые, богатые и нищие -- все мы равны пред его воскресением, пред всеми нами стоит трапеза, которую приготовила победа над смертью.
Недаром существует в народе поверье, что душа грешника, умершего в светлый праздник, очищается от грехов и уносится в райские обители.
Может ли быть допущена идея о смерти в тот день, когда все говорит о жизни, все призывает к ней? Я люблю эти народные поверья, потому что в них, кроме поэтического чувства, всегда разлито много светлой, успокоивающей любви. Не знаю почему, но, когда я взгляну на толпы трудящихся, снискивающих в поте лица хлеб свой, мне всегда приходит на мысль: "Как бы славно было умереть в этот великий день!.."
Для всех воскрес Христос! Он воскрес и для тебя, мрачный и угрюмый взяточник, для тебя, которого зачерствевшее сердце перестало биться для всех радостей и наслаждений жизни, кроме наслаждений приобретения и неправды. В этот великий день и твоя душа освобождается от тяготевших над нею нечистых помыслов, и ты делаешься добр и милостив, и ты простираешь объятия, чтобы заключить в них брата своего.
Он воскрес и для вас, бедные заключенники, несчастные, неузнанные странники моря житейского! Христос сходивший в ад, сошел и в ваши сердца и очистил их в горниле любви своей. Нет татей, нет душегубов, нет прелюбодеев! Все мы братия, все мы невинны и чисты перед гласом любви, всё прощающей всё искупляющей... Обнимем же друг друга и всем существом своим возгласим: "Други! братья! воскрес Христос!"
Он воскрес и для тебя, бедный труженик, кроткая жертва свирепой бюрократии! Добрый начальник Сергей Александрыч велел выдать всем чиновникам пособие из "остаточков" на праздник -- и вот является у тебя на столе румяный кулич и рядом с ним красуется добрая четверть телятины. Не велик твой угол, не веселит ничьего взора твое убожество, но в этот день и твоя бедная комнатка вымыта и прибрана по-праздничному, дети одеты в чистеньких ситцевых рубашонках, а жена гордо расхаживает в до невозможности накрахмаленной юбке. Дети твои беспрестанно подходят и к румяному куличу, и к заманчивой телятине: они ждут не дождутся, когда все эти великолепные вещи сделаются их достоянием. Но ты ласково сдерживаешь их нетерпение; ты знаешь, что в этот день придут к тебе разговеться такие же труженики, как и ты сам, не получившие, быть может, на свою долю ничего из "остаточков"; сердце твое в этот день для всех растворяется; ты любишь и тоскуешь только о том, что не можешь всех насытить, всех напитать во имя Христа-искупителя.
Он воскрес и для тебя, серый армяк! Он сугубо воскрес для тебя, потому что ты целый год, обливая потом кормилицу-землю, славил имя его, потому что ты целый год трудился, ждал и все думал: "Вот придет светлое воскресенье, и я отдохну под святою сенью его!" И ты отдохнешь, потому что в поле бегут еще веселые ручьи, потому что земля-матушка только что первый пар дала, и ничто еще не вызывает в поле ни твоей сохи, ни твоего упорного труда!
Для всех воскрес Христос! Все мы, большие и малые, богатые и убогие, иудеи и еллины, все мы встанем и от полноты душевной обнимем друг друга!
Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко, но как светло оно сияло, как тепло оно грело! На улицах было сухо; недаром же говорят старожилы, что какая ни будь дурная погода на шестой неделе поста, страстная все дело исправит, и к светлому празднику будет сухо и тепло. Мне сделалось скучно в комнате одному, и я вышел на улицу, чтоб на народ поглядеть.
-- Христос воскрес! -- кричит мне Порфирий Петрович, влекомый парой кауреньких лошадок, -- там будете?
И, не дождавшись моего ответа, прибавляет:
-- То-то же! сегодня грех! сегодня не такой день, чтоб в карты играть! Сегодня, по древнему обычаю, пораньше спать лечь следует.
Я иду дальше и в скором времени равняюсь с домиком "матушки" Палагеи Ивановны, у которой все окна, по случаю великого праздника, настежь.
-- Ну, что, как "несчастненькие"? -- спрашиваю я у этой милой женщины, которой кроткое лицо отрадно и освежительно действует на мою душу.
-- А что? Все слава богу! чуть не затискали меня, старуху, совсем! Да не побрезгуй, барин любезный, зайди ко мне разговеться! Поди, чай, тебе, сердечному, одному-то в такой праздник как скучно!
И мне действительно делается внезапно так грустно и горько, что я чувствую, как слезы душат и давят меня. Я в самом деле припоминаю, что мне чего-то недостает, что я как будто лишний на белом свете, что я один, всегда один. И я вдвое начинаю любить эту милую Палагею Ивановну за то, во-первых, что она назвала меня "сердечным", а во-вторых, за то, что она от всей души пригрела и приютила меня в великий праздник. Неизвестно почему, но Палагея Ивановна всегда как-то особенно вздыхает и покачивает головой, когда со мной говорит. Иногда мне случается подметить ее взор, устремленный на меня в то время, как я разговариваю с ее племянниками и племянницами, с ее сиротками, которых у нее полон дом, и взор этот всегда бывает полон какой-то тихой, любящей грусти. Нет сомненья, что она и во мне видит одного из толпы "несчастненьких", что она охотно полюбила бы меня, как любит своих сироток, если бы я, на мое несчастие, не был чиновником. Чиновнический вицмундир во многих случаях лишал меня возможности наслаждаться бездною приятных вещей. Палагея Ивановна высокая и полная женщина; должно полагать, что смолоду она была красавицей, потому, во-первых, что черты лица ее и доселе говорят еще о прошедшей красоте, а во-вторых, потому, что женщина с истинно добрым сердцем, по мнению моему, должна, непременно должна быть красавицей.
Между тем я вхожу во двор, на котором взапуски веселится и резвится молодое поколение. Палагею Ивановну эта резвость очень утешает. Как женщина истинно добрая, она сама очень весела, и потому любит, когда другие веселятся. С той минуты, как я вхожу в ее двор, моя хандра исчезает мгновенно. Малолетные племянники и племянницы со всех сторон обступают меня и хвастаются передо мною своими обновками, потому что Палагея Ивановна всех для праздника наделила. В стороне, у забора, положено бревно, поперек которого брошена доска, и две девушки, лет по двенадцати, делают величайшие усилия, чтобы подскакнуть как можно выше. Около служб мирно пасется стая индеек, и несколько мальчишек усердно дразнят огромного индюка, который изо всех сил топырится, а по временам и наскакивает стремительно на обидчиков, мгновенно рассыпающихся в разные стороны.
-- Ваня! а Ваня! что петуха, голубчик, дразнишь? -- кричит Палагея Ивановна, вышедшая навстречу мне на крыльцо.
Но дети так тесно обступают меня, что я не имею никакой возможности пробраться к моей хозяйке. Они громко и деспотически требуют гривенника на пряники, который и получают с знаками всеобщего и шумного удовольствия.
-- Ишь пострелята, как завладели барином! -- говорит Палагея Ивановна, но слово "пострелята" выходит у ней как-то совсем не бранно.
Я наконец освобождаюсь и вхожу в горницу, в которой присутствует уж большая компания. В переднем углу сидит дедушка Иван Гаврилыч; он уж лет десять ничего не видит и не слышит, и лицо его от старости покрылось каким-то мохом. Однако ж Палагея Ивановна и до сих пор никакого дела не затевает, не испросивши наперед его благословения, и мне положительно известно, что ключи от денежного сундука до сих пор хранятся у "дедушки", который выдает деньги с величайшею скупостью. Рядом с ним сидит старуха, свекровь хозяйкина, и эта почтенная фигура напоминает мне о муже Палагеи Ивановны. Муж этот еще жив, но он куда-то услан за дурные дела, и нет сомнения, что это обстоятельство имеет большой вес в том сострадании, которое чувствует Палагея Ивановна к "несчастненьким". Тут же присутствует и спившийся с кругу приказный Трофим Николаич, видавший когда-то лучшие дни, потому что был он и исправником, и заседателем, и опять исправником, и просто вольнонаемным писцом в земском суде, покуда наконец произойдя через все медные трубы, не устроил себе постоянного присутствия в кабаке, где, за шкалик "пенного", настрочить может о чем угодно, куда угодно и какую угодно просьбицу захмелевшему мужичку. Но в этот великий праздник и Трофим Николаич считает за грех идти в кабак и отправляется с поздравлением к разным благодетелям, которых у него очень много в купеческом и мещанском сословии. Он, впрочем, очень редко подходит к большому столу, на котором стоят куличи и другие пасхальные принадлежности, а больше придерживается малого стола, стоящего у стенки, на котором красуются рюмки и графины с водкой. Несколько молодых бабенок и парней дополняют картину.
-- Пожалуйте! просим покорно побеседовать! -- говорит Палагея Ивановна, вводя меня в комнату. -- Батюшка! Николай Иваныч пришел!
Но "дедушка" не слышит и только чавкает.
-- Вы старика-то моего не обессудьте, барин любезный, -- продолжает Палагея Ивановна, -- что он, по старости лет, почтения вам отдать не в силах.
Меня усаживают подле старика, хотя мне скорее желалось бы побыть с молодушками; с другой стороны, молодушки, по всем вероятиям, подметили мою кислую физиономию, потому что я вижу, как они смеются втихомолку.
-- Кушай, батюшка, кушай! -- говорит Палагея Ивановна приказному, который, подняв рюмку, не может ничего уже выразить словесно и только устремляет на нее долгий, умоляющий взор.
Беседа, прерванная моим приходом, возобновляется, но весьма умеренно.
-- Так-то, -- шамкает дедушка, -- так-то вот, детки, стар, стар, а все пожить хочется... Все бы хоть годиков с десяток протянул, право-ну!
Молодухи смеются.
-- Да тебе бы, дедушка, и жениться так в ту же пору, -- говорит одна из них побойчее, -- какой ты еще старик!
-- Ась? -- спрашивает дедушка.
Палагея Ивановна подходит к нему и на ухо, как можно громче объясняет, что вот Варвара от живого мужа за него, старика, замуж собирается.
-- Да, да, -- отвечает дедушка, -- я еще старик здоровенный... здоровенный старик, только вот ноженьки плохо ходят... плохо, куда плохо ходят ноженьки...
Молодушки смеются пуще прежнего.
-- А что, как торги, дедушка? -- спрашивает свекровь, наклоняясь к самому уху старика.
-- Плохо, сударыня, плохо! совсем ноне плохо стало; сам я вот недослышу что-то, а Палагеюшка у меня еще молода... Об ину пору так разнеможешься, словно и взаправду старость пришла. А пуще всего ноженьки! мозжат это, знаешь, мозжат, словно вот винтом тебе кость-ту винтит!
Трофим Николаевич подходит, пошатываясь, к дедушке и, наклонясь к его уху, хочет, вероятно, пожелать ему доброго здравия, но только икает и как-то неблаговидно сопит, что чрезвычайно смешит молодушек; дедушка же, почуяв носом сильный запах сивухи, пятится ближе к стене.
-- Батюшка! Трофим Николаич доброго здоровья тебе желает! -- кричит Палагея Ивановна и, обращаясь к приказному, прибавляет, -- кушай, батюшка, кушай на здоровье!
-- Ой ли! -- шамкает старик, -- а я было думал, что из суседнего кабака дверь отворилась... право-ну! А как-то ты, крыса приказная, век доживаешь, винцо попиваешь?
-- С-с-с-лав-ва вввсе-ввышнему! -- успевает, не без больших усилий, проговорить Трофим Николаич.
-- Чего, чай, "слава всевышнему"! -- замечает Иван Гаврилыч, -- поди, чай, дня три не едал, почтенный! все на вине да на вине, а вино-то ведь хлебом заедать надо.
-- Это п-п-правильно! -- произносит Трофим Николаич.
-- То-то! а еще благородный прозываешься!
-- Да что ж вы-то, любезненький, ничего не прикушаете? -- обращается ко мне Палагея Ивановна, -- хошь бы тенерифцу пожаловали или вот орешками с молодушками позабавились! А может, вам и скучненько со стариками-то? Пожалуйте, барин, хошь в ту горницу: там наши молодухи сидят!
Я выхожу в другую комнату, но и там мне не весело. Есть какой-то скверный червяк, который сосет мою грудь и мешает предаваться общему веселью. Я сижу с четверть часа еще и ухожу от Палагеи Ивановны.
Уж два часа; на улицах заметно менее движения, но, около ворот везде собираются группы купчих и мещанок, уже пообедавших и вышедших на вольный воздух в праздничных нарядах. Песен не слыхать, потому что в такой большой праздник петь грех; видно, что все что ни есть перед вашими глазами предается не столько веселию, сколько отдохновению и какой-то счастливой беззаботности.
-- Что вы всё одни да одни! зайдите хоть к нам, отобедаем вместе! -- говорит мне мой искреннейший друг, Василий Николаич Проймин, тот самый, которому помещик Буеракин в великую заслугу ставит его наивное "хоть куда!" [См. "Влад. Конст. Буеракин" (Прим. Салтыкова-Щедрина.)].
И я отправляюсь, совершенно счастливый, что мне есть с кем разделить трапезу этого великого дня. Василий Николаич окончательно разгоняет мою хандру своим добродушием, которому "пальца в рот не клади"; супруга его, очень живая и бойкая дама, приносит мне истинное утешение рассказами о давешнем приеме князя Льва Михайловича; детки их, живостью и юркостью пошедшие в maman, а добродушием и тонкою наблюдательностью в papa, взбираются мне на плечи и очень серьезно убеждаются, что я лошадка, а совсем не надворный советник.
Я счастлив, я ем с таким аппетитом, что старая экономка Варвара с ужасом смотрит на меня и думает, что я по крайней мере всю страстную неделю ничего не ел.
ЮРОДИВЫЕ
НЕУМЕЛЫЕ
Как-то раз случилось мне быть в Полорецком уезде по одному весьма важному следствию. Так как по делу было много прикосновенных из лиц городского сословия, то командирован был ко мне депутатом мещанин Голенков, служивший ратманом в местном магистрате. Между прочим, Голенков оказался отличнейшим человеком. Это был один из тех умных и смирных стариков, каких нынче мало встречается; держал он себя как-то в стороне от всякого столкновения с уездною аристократией, исключительно занимался своим маленьким делом, придерживался старины, и в этом последнем отношении был как будто с норовом. Во время наших частых переездов с одного места на другое мы имели полную возможность сблизиться, и, само собою разумеется, разговор наш преимущественно касался тех же витязей уездного правосудия, о которых я имел честь докладывать в предшествующих очерках. В особенности же обильным источником для разного рода соображений служил знакомец наш Порфирий Петрович, которого быстрое возвышение и обогащение служило в то время баснею и поучением чуть ли не для целой губернии.
-- Оно точно, -- сказал мне однажды Голенков, -- точно, что Порфирий Петрович не так чтобы сказать совсем хороший человек, да с ним все-таки, по крайности, дело иметь можно, потому что он резонен и напрямки тебе скажет, коли дело твое сумнительное. А вот, я вам доложу, тоска-то, как видишь, что человек-от и честной и хороший, а ни к чему как есть приступиться не может -- все-то у него из рук валится. С таким связаться -- не приведи господи! Начнешь ему резон докладывать, так он не то чтоб тебе благодарен, а словно теленок всеми четырьми ногами брыкается. "Вы, мол, скоты, чего понимаете! Не смыслите, как и себя-то соблюсти, а вот ты на меня посмотри -- видал ли ты эких молодцов?" И знаете, ваше благородие, словами-то он, пожалуй, не говорит, а так всей фигурой в лицо тебе хлещет, что вот он честный, да образованный, так ему за эти добродетели молебны служить следует. Вот, мол, до чего вы, скоты, дожили, что честный-то человек у вас словно жар-птица!
Николай Федорыч вздохнул.
-- А вся эта ихняя фанаберия, -- продолжал он, -- осмелюсь, ваше благородие, выразиться, именно от этого их сумления выходит. Выходит по-ихнему, что они нас спасать, примерно, пришли; хотим, дескать, не хотим, а делать нече -- спасайся, да и вся недолга. Позабудь он хоть на минуточку, что он лучше всех, поменьше он нас спасай, -- может, и мог бы он дело делать.
-- Про кого же вы это говорите, Николай Федорыч?
-- А я, ваше благородие, больше к слову-с; однако не скрою, что вот нынче пошел совсем другой сорт чиновников: всё больше молодые, а ведь, истинно вам доложу, смотреть на них -- все единственно одно огорченье. На словах-то он все тебе по пальцам перечтет, почнет это в разные хитрости полицейские пускаться, и такую-то, мол, он штуку соорудит, и так-то он бездельника кругом обведет, -- а как приступит к делу, -- и краснеет-то, и бледнеет-то, весь и смешался. И диви бы законов не знали или там форм каких; всё, батюшка, у него в памяти, да вот как станет перед ним живой человек -- куда что пошло! "тово" да "тово" да "гм" -- ничего от него и не добьешься больше. Изволите вы знать Михаила Трофимыча?
-- Как не знать.
-- Ну, вот-с, извольте прислушать. Ездили мы с ним, этта, на следствие. Хорошо. Едем мы этак, разговариваем промеж себя, вот хошь, примерно, как с вами. "Этих, говорит, старых мерзавцев да кляузников всех давно бы уж перевешать надо. От них, говорит, и правительству тень; оно, вишь, их, бездельников, поит-кормит, а они только мерзости тут делают!" И знаете, все этак-то горячо да азартно покрикивает, а мне, пожалуй, и любо такие речи слушать, потому что оно хоша не то чтоб совсем невтерпеж, а это точно, что маленько двусмыслия во всех этих полицейских имеется. Вот-с и говорю я ему: какая же, мол, нибудь причина этому делу да есть, что все оно через пень-колоду идет, не по-божески, можно сказать, а больше против всякой естественности? "А оттого, говорит, все эти мерзости, что вы, говорит, сами скоты, все это тИрпите; кабы, мол, вы разумели, что подлец подлец и есть, что его подлецом и называть надо, так не смел бы он рожу-то свою мерзкую на свет божий казать. А то, дескать, и того-то вы, бараны, не разумеете, что не вы для него тут живете, чтоб брюхо его богомерзкое набивать, а он для вас от правительства поставлен, чтобы вам хорошо было!" Ладно. Дал я ему поуспокоиться -- потому что он даже из себя весь вышел -- да и говорю потом: "Ведь вот ты, ваше благородие (я ему и ты говорил, потому что уж больно он смирен был), баешь, что, мол, подлеца подлецом называть, а это, говорю, и по християнству нельзя, да и начальство пожалуй не позволит. Этак ты с своего-то ума, пожалуй, и меня подлецом назовешь, а я и не подлец совсем, так на что ж это будет похоже? Да и подлец, коли уж он, то есть, настоящий подлец, за лишнею ругачкой на тебя и не полезет: это ему все одно, что ковшик воды выпить. А ты вот мне что скажи: говоришь ты, что не мы для него, а он для нас поставлен, а самих-то ты нас, ваше благородие, и скотами и баранами обзываешь -- как же это так? Теперича я, примерно, так рассуждаю: коли у скотского, то есть, стада пастух, так пастух он и будь, и не спрашивай он у барана, когда ему на водопой рассудится, а веди, когда самому пригоже. Коли мы те же бараны, так, стало, и нам в эвто дело соваться не следует: веди, мол, нас, куда вздумается!" Что ж бы вы думали, ваше благородие! уткнулся он в кибитку, да только надулся словно петух, раскраснелся весь -- не понравилось, видно, что "баранами" попрекнул. Уж куда как они все не любят, как им в чем ни есть перечить станешь: "Ты, мол, скотина, так ты и слушай, покелева я там разговаривать буду". Сидел он этак уткнувшись и молчал всю станцию; ну, и я ничего, стало даже совестно, что божьего младенца будто изобидел. Однако спустя немного опять повеселел, словно и забыл совсем. Едем мы другую станцию, дело было ночью, ямщик-от наш и прикурнул маленько на козлах. "Пошел!" -- кричит Михайло Трофимыч. Не тут-то и было! пошевелил вожжами и опять плетется трух-трух. "Пошел!" -- кричит, слышу, опять мой Михайло Трофимыч, а сам уж и в азарт вошел, и ручонки у него словно сучатся, а кулачонко-то такой миниятюрненький, словно вот картофелина: ударить-то до смерти хочется, а смелости нет! Совестно ему, что ли, или боится он -- и сам не разберу. Только как это закричал диким манером, так и ямщик-от, доложу вам, обернулся на него, будто удивился, а лакей ихний сидит тоже на козлах, покачивается, да говорит ему: "Вы бы, Михайло Трофимыч, не изволили ручек-то своих беспокоить". Именная умора была!..
Голенков рассмеялся; я тоже не мог не улыбнуться.
-- Так вот оно как-с! -- продолжал он, -- разберите же, ваше благородие, это дело как следует, так какая же у него от других-то отличка? Нет-с, верно, так уж они все сформированы, что у всякого, то есть, природное желание есть руками-то вперед совать, а который не тычет, так не потому, чтоб дошел он до того, что это не християнских рук дело, а потому, что силенки нет. Так, пожалуй, ударит, что и не почувствуешь, -- ну, и выдет один страм! Я, ваше благородие, знавал таких, что уж и больно на руку невоздержны; вот как силенки-то у него нет, так он и норовит изобрать такое место, чтоб почувствительнее, примерно хочь в зубы, али там в глаза... Ну, этот народ уж совсем злущий, эких немного Этот как бьет, весь побледнеет, словно мертвый, и зубы стиснет, и дышит как-то трудно... А большая часть дерется откровенно, без злобы, наотмашь, куда попало... так, чтоб порядок только соблюсти.
-- Так вы приходите к тому заключенью, что Михайло Трофимыч хуже какого-нибудь Фейера или Порфирия Петровича? Так, что ли?
-- Нет, я этого не скажу, чтоб он сам по себе хуже был, потому что и сам смекаю, что Михайло Трофимыч все-таки хороший человек, а вот изволите ли видеть, ваше благородие, не умею я как это объясниться вам, а есть в нем что-то неладное. Словно вот как у нас баба робенка не доносит: такой слабый да хилый ходит, точно он в половину только живой, а другой-то половиной уж мертвый. Живого матерьялу они, сударь, не понимают! им все бы вот за книжкой, али еще пуще за разговорцем: это ихнее поле; а как дойдет дело до того, чтоб пеньки считать, -- у него, вишь, и ноженьки заболели. Примется-то он бойко, и рвет и мечет, а потом, смотришь, ан и поприутих, да так-то приутих, что все и бросил; все только и говорит об том, что, мол, как это его, с такими-то способностями, да грязь таскать запрягли; это, дескать, дело чернорабочих, становых, что ли, а его дело сидеть там, высоко, да только колеса всей этой механики подмазывать. А того и не догадается, что коли все такую мысль в голове держать будут, -- ведь почем знать! может, и все когда-нибудь образованные будут! -- так кому же пеньки-то считать?
Николай Федорыч умилился.
-- Вот и приехали мы с ним на следствие. Следствие-то было важное. В помещичьем имении, управляющего сын, об масленице, с пьяной компанией забавлялись, да кто их знает? невзначай, что ли, али и для смеху, пожалуй, только и зашибли они одну девку совсем до смерти. Однако, как ни были пьяни, а сделавши такое дело, опомнились; взяли и вывезли тело на легких саночках да поРбок дороги и положили. Известно наехало Отделение; туда-сюда -- угощенье, разумеется; чуть-чуть и другую тут девку не убили. Оказалось, что умертвия тут нет никакого, а последовала смерть от стужи, а рана на голове оттого, мол, что упала девка в гололедь и расшибла себе голову. Только чудно, что она это словно нарочно на самый, то есть, висок упала. Оно бы так и кончилось, да был на ту пору с исправником не в ладах писец какой-то, так ледащий. Донес. Прислали другого чиновника, уж из губернии; оказалось, что смерть произошла истинно от умертвия и что в умертвии подозревается сын управляющего. Однако, стой! был тутотка лекарь и говорит, что умертвия опять-таки нет, а просто смерть как смерть. Этого чиновника отозвали, прислали другого; тот посмотрел-посмотрел, пишет: точно -- смерть. Судили там, рядили, кому тут верить: один говорит: смерть, другой говорит: умертвие; вот и прислали к нам Михайла Трофимыча, хуже-то, знать, не нашли. Приехал он к нам форсистый такой; известно, игрушки-с; чуть не зараньше радуется, что ему начальство крест за такое дело вышлет. А выехал он теперича с тем, чтобы в пользу умертвия, потому, говорит, что уж это так и быть должно. Вот-с, и приехали мы на место, и говорю я ему, что ведь эти дела надо, Михайло Трофимыч, с осторожностью делать; не кричи, ваше благородие, а ты полегоньку, да с терпеньем. "Как же! как же!" -- говорит. И точно, вижу я, это, достал он зипун себе, бороду приклеил, парик надел и пошел -- куда бы вы думали? -- пошел в кабак-с! Ну, разумеется, речи-то у него крестьянской все-таки нет; как он там ни притворялся, а обознали его; паричок-от и всю одежу сняли, да так как есть по морозу и пустили. Право-с. Даже бить не били, потому что до экого мизерного и дотронуться-то никому неохота; так разве шлепка легонького дали, чтоб дело совсем в порядке было, не без хлеба-соли домой отпустить. Пришел он на квартиру: и плачет-то, и ругается. Однако не унялся. Слышал он еще в школе, должно быть, что в народе разное суеверие большую ролю играет: боятся это привидений и всякая там у них несообразность. Возьми да и оденься он в белую простыню; дал, знаете, стряпке управительской три целковых, чтоб пропустила куда ему нужно да и пошел ночью в горницу к обвиненному. А тот лежит себе, будто ничего и не знает. Вылез Михайло Трофимыч весь в белом из-под кровати, да и говорит ему басом: "Сказывай, говорит, как ты убил Акулину?" Только тот-то плут изначала притворился, будто и взаправду обробел, бросился привидению в ноги. "Я, говорит, убил, я! грешный человек!" -- "Покайся же, -- говорит Михайло Трофимыч, -- рассказывай, как ты ее убил?" Тот вдруг как вскочит: "Вот как бил! вот как бил!" -- да такую ли ему, сударь, встрепку задал, что тот и жизни не рад. "Коли ты, говорит, не смыслишь, так не в свое дело не суйся!" А за перегородкой-то смех, и всех пуще заливается та самая стряпка, которой он своих собственных три целковых дал. Хотел было он и жаловаться, так уж я насилу отговорил, потому что он сам не в законе дело делал, а только как будто забавлялся. Примись за это дело другой -- вся эта штука беспременно бы удалась, как лучше нельзя, потому что другой знает, к кому обратиться, с кем дело иметь, -- такие и люди в околотке есть; ну, а он ко всем с доверенностью лезет, даже жалости подобно. Ну-с, и маялись мы с ним, с убийцей-то; Михайло Трофимыч ему вопрос, а он ему два, да уж не то чтоб Михайло Трофимыч убийцей, а убийца-то им же и командует. Начнет это околесицу ему рассказывать, тот станет его останавливать, так куда тебе! "Вы, говорит, ваше благородие, должны предоставить мне все средства к оправданию". А не то вот свидетелей привели: того не допущает по хлебосольству, того по вражде -- даже свидетели-то смеются, как он им помыкает! Так и не допустил никого до присяги, кого нужнее, а вот, говорит, спроси такого-то: он в евто самое время на селе был. И привели к нам старика древнего, слепого и глухого; ну, того об чем ни спрашивали, окроме "асиньки" ничего не добились. А Михайло-то Трофимыч этаким манером поопросивши всех: "Ну, говорит, теперь дело, славу богу, кажется, округлено!" Сел он писать донесение, кончил и мне прочитал. Ну уж чудо, ваше благородие! этакого я и не привидывал! Все-то он туда понаписал: и переодеванья-то свои, и историю о привидениях! и ведь как это у него там гладко уложилось -- читать удивленье! Кажется, так бы и расцеловал его: такой он там хитрый да смышленый из бумаги-то смотрит! "Однако, -- говорю я ему, -- как бы тебе этак, ваше благородие, бога не прогневить!" -- "А что?" -- "Да так, уж больно ты хорошо себя описал, а ведь посмотреть, так ты дело-то испортил только". -- "Ничего, говорит, ладно будет!" И точно-с! убийца-то и до сих пор здравствует!
-- Что ж это доказывает, Николай Федорыч? Это доказывает только, что Михайло Трофимыч глуп или к полицейской службе не способен -- вот и все.
-- Нет-с, это, я вам доложу, не от неспособности и не от глупости, а просто от сумленья, да от того еще, что терпенья у него, прилежности к делу нет. Все думает, что дело-то шутки, что ему жареные рябцы сами в рот полетят, все хочет на свой манер свет-от исковеркать! Так врешь! ты сначала поучись, да сам к естеству-то подладься, да потом и владей им на здоровье; в ту пору, как эким-то манером с ним совладаешь, оно и само от тебя не уйдет. Вы думаете, Михайло-то Трофимыч поедет в другой раз на следствие? Нет-с, его уж на сто верст туда не заманишь! Он и в первой-от раз поехал, потому что не знал, что за штука такая; думал, что будет свои фантазии там разыгрывать, а убийца, дескать, будет его слушать да помалчивать. Ан и выходит, что во всяком деле мало одной честности да доброй воли: нужна тоже добросовестность, нужно знание. Грязью-то не гнушайся, а разбери ее, да, разобравши хорошенько, и суй в ту пору туда свой нос. А то, вишь, ручки у тебя больно белы, в перчатках ходишь, да нос-от высоко задираешь -- ну, и ходи в перчатках.
Последние слова Николай Федорыч произнес с некоторым ожесточением.
-- Вот-с, -- продолжал он, -- этот самый Михайло Трофимыч приехал к нам в другой раз думу ревизовать. Собрал он все наше общество, да и ну нас костить: все-то у нас скверно да мерзко! Затеял это торговлю поверять, все лавчонки исходил, даже ходебщиков всех обшарил и все, говорит, не так. Тебе, говорит, следует торговать иголками, тебе благовонием, всех расписал. По заводам пошел -- число работников стал поверять, чаны пересчитал и везде, сударь, нашел, что обхаять. "Ты, говорит, мещанин, так у тебя работников должно быть меньше". -- "Да помилуй, ваше благородие, ведь с меньшим-то числом работников экова дела и начинать нельзя!" Так куда тебе, и слышать ничего не хочет: мне, говорит, до этого дела нет. Вот и выходит, что в эвдаком-то деле и Фейра добром помянешь. Тому хочь и предписано, да если он видит, что и впрямь торговцу-то тесно, так и в предписании-то отыщет такую мякоть, что все пойдет как будто по-прежнему. А этот просто никаких резонов понимать не хочет. И ведь всё-то они так! Окружили нас кругом, так что дыхнуть нельзя: туда ступай, или врешь, не ступай, а сиди, или врешь, не сиди... совсем и мы-то смешались. Лужаечки у нас какие были -- поотняли: бери, дескать, с торгов, а нам под выгон отвели гарь -- словно твоя плешь голо, ну и ходит скотинка не емши. Лесок какой есть, и в тот не пускают, вот эконькой щепочки не дадут; да намеднись еще спрашивают, нельзя ли, мол, и за воду-то деньги брать!.. А ведь дело-то оно наше, кровное наше -- чего бы еще, кажется! Ну, и выходит, что тут уж не служба, а просто озорство какое-то, прости господи!
Николай Федорыч плюнул.
-- Как же вы полагаете, отчего все это происходит-то, Николай Федорыч?
-- А вот, сударь, отчего. Первое дело, много вы об себе думаете, а об других -- хочь бы об нас грешных -- и совсем ничего не думаете: так, мол, мелюзга все это, скоты необрезанные. Второе дело, совсем не с того конца начинаете. Ты, коли хочешь служить верой, так по верхам-то не лазий, а держись больше около земли, около земства-то. Если видишь, что плохо -- ну и поправь, наведи его на дорогу. А то приедет это весь как пушка заряжённый, да и стреляет в нас своею честностью да благонамеренностью. Ты благодетельствуй нам -- слова нет! -- да в меру, сударь, в меру, а не то ведь нам и тошно, пожалуй, будет... Ты вот лучше поотпусти маленько, дай дохнуть-то! Может, она и пошла бы, машина!
ОЗОРНИКИ
Vir bonus, dicendi peritus.
[Муж добродетельный, в речах искусный (Лат)]
"Если вы думаете, что мы имеем дело с этой грязью, avec cette canaille, то весьма ошибаетесь. На это есть писаря, ну, и другие там; это их обязанность, они так и созданы... Мы все слишком хорошо воспитаны, мы обучались разным наукам, мы мечтаем о том, чтобы у нас все было чисто, у нас такие опрятные взгляды на администрацию... согласитесь сами, что даже самое comme il faut запрещает нам мараться в грязи. Какой-нибудь Иван Петрович или Фейер -- это понятно: они там родились, там и выросли; ну, а мы -- совсем другое. Мы желаем, чтоб и формуляр наш был чист, и репутация не запятнана -- vous comprenez? [вы понимаете? (франц.)]
Повторяю вам, вы очень ошибаетесь, если думаете, что вот я призову мужика, да так и начну его собственными руками обдирать... фи! Вы забыли, что от него там бог знает чем пахнет... да и не хочу я совсем давать себе этот труд. Я просто призываю писаря или там другого, et je lui dis "Men cher, tu me dois tant et tant" [и я ему говорю "Дорогой мой, ты мне должен столько-то и столько-то" (франц.)], -- ну, и дело с концом. Как уж он там делает -- это до меня не относится.
Я сам терпеть не могу взяточничества -- фуй, мерзость! Взятки опять-таки берут только Фейеры да Трясучкины, а у нас на это совсем другой взгляд. У нас не взятки, а администрация; я требую только должного, а как оно там из них выходит, до этого мне дела нет. Моя обязанность только исчислить статьи: гоньба там, что ли, дорожная повинность, рекрутство... Tout cela doit rapporter. [Все это должно приносить доход. (франц.)]
Je suis un homme comme il faut; [Я человек порядочный (франц.)] я дитя нынешнего времени; я хочу иметь и хорошую сигару, и стакан доброго шатодикема; я должен -- вы понимаете? -- должен быть прилично одетым; мне необходимо, чтоб у меня в доме было все комфортабельно -- le gouvernement me doit tout cela [правительство должно мне все это (франц.)]. Я человек холостой -- j'ai besom d'une belle; [мне необходима красивая женщина (франц.)] я человек с высшими, просвещенными взглядами -- нужно, чтоб мысль моя была покойна и не возмущалась ни бедностью, ни какими-нибудь недостатками -- иначе какой же я буду администратор? Каким образом буду я заниматься разными филантропическими проектами, если голова у меня не свободна, если я должен всечасно о том только помышлять, чтобы как-нибудь наполнить свой желудок? Для того, чтобы приносить действительную пользу, я должен быть весел, бодр, свеж и беззаботен -- все это очень просто и понятно; и если судьба забила меня в какой-нибудь гнусный Полорецк, то из этого вовсе не следует, что я должен сделаться Зеноном.
Нет, Dieu merci [благодарение богу (франц.)], нынче на Зенонов посматривают косо. Это всё народ желчный и беспокойный; страдают, знаете, печенью; ну, а я, слава богу, просто благонамеренный человек -- и больше ничего. Entre nous soit dit [Между нами говоря (франц.)], я даже немножко эпикуреец. Я убежден, что без материяльных удобств жизнь не может представлять ничего привлекательного. Хороший обед, хорошее вино проливают в душу спокойствие, располагают ее к дружелюбию, сообщают мысли ясность и прозрение. Сами согласитесь, могли ли бы мы с вами так хорошо беседовать, если б мы наелись, как ямщики на постоялом дворе, до отвала щей и каши? Да тут одна изжога такой бы кутерьмы наделала, что и не развязался бы с ней. Кажется, это ясно.
От этого-то я и не люблю ничего такого, что может меня расстроить или помешать моему пищеварению. А между тем -- что прикажете делать! -- беспрестанно встречаются такие случаи. Вот хоть бы сегодня. Пришел ко мне утром мужик, у него там рекрута, что ли, взяли, ну, а они в самовольном разделе..."
-- Да; скажите, пожалуйста: я так часто слышу об этом разделе -- что это такое?
"-- Самовольный раздел? ну да, это значит, что они там разделились, брат, что ли, с братом, или отец с сыном, потому что есть у них на это свои мужицкие причины, des raisons de moujik. Подерутся там бабы между собой или свекор войдет в слишком приятные отношения к снохе -- вот и пойдут в раздел... Ну, а этого нельзя, потому что высшие хозяйственные соображения требуют, чтобы рабочие силы были как можно больше сосредоточены. Мужик, конечно, не понимает, что бывают же на свете такие вещи, которые сами себе целью служат, сами собою удовлетворяются; он смотрит на это с своей материяльный, узенькой, так сказать, навозной точки зрения, он думает, что тут речь идет об его беспорядочных поползновениях, а не о рабочей силе -- ну, и лезет... Но не в этом дело. Пришел ко мне мужик и говорит, чтоб я вошел в его положение. "У тебя, братец, свое там начальство есть,-- отвечаю я ему,-- сход там, что ли, голова, писаря".-- Tout cela est fait pour leur bien [Все это сделано для их блага (франц.)]. Что ж бы вы думали? повалился ко мне в ноги, целует их, плачет -- даже совестно, parce que e'est un homme pourtant! [потому что это ведь все-таки человек! (франц.)] "Везде, говорит, был; на вас только и надежда; нигде суда нет!" Вот, видите ли, он даже не понимает, что я не для того тут сижу, чтоб ихние эти мелкие дрязги разбирать; мое дело управлять ими, проекты сочинять, pour leur bien, наблюдать, чтоб эта машина как-нибудь не соскочила с рельсов -- вот моя административная миссия. А какая же мне надобность, что там Куземка или Прошка пойдет в рекруты: разве для государства это не все равно, je vous demande un peu?" [я вас спрашиваю (франц.)]
-- Однако что же вы сделали с мужиком?
"-- Конечно, прогнал... Но вы заметьте, как они еще мало развиты, comme ils sont encore loin de pouvoir jouir des bienfaits de la civilisation [как они еще далеки от возможности пользоваться благами цивилизации (франц.)]. Вот им дали сходы, дали свой суд -- это уж почти selfgovernment [самоуправление (англ. )], а он все-таки лезет. А почему он лезет? спрашиваю я вас: не потому ли, что он хоть инстинктивно, но понимает, что он ничего, что и сход его ничего; что только просвещенный взгляд может осветить этот хаос, эту, так сказать, яичницу, которую все эти Прошки там наделали.
Вы спросите меня, быть может, зачем же я не разобрал его просьбы, если только за собой одним признаю возможность и право сделать зависящее распоряжение к наилучшему устройству всех этих дел? Mais entendons-nous, mon cher [Но давайте, дорогой мой, сговоримся (франц.)]. Нет сомнения, что я не люблю этих сходов; нет сомнения, что там только руками махают, а говорят так грубо и непонятно, что даже неприятно слушать. Но, с одной стороны, я прежде всего и выше всего уважаю форму, и тогда только, когда она предстанет пред мое лицо, вооруженная всеми подписями, печатьми и скрепами, я позволяю себе дать ей легкий щелчок по носу, чтобы знала форма, что она все-таки ничто перед моими высшими соображениями. И притом у меня есть такие там особенные лилипуты, которые смотрят на все моими глазами и все слышат моими ушами: должен же я и им что-нибудь предоставить! Эти лилипуты -- народ самый крохотный, с булавочную головку, но препонятливый. Они с таким успехом разбирают всех этих Прошек, что даже смотреть любо.
Вообще я стараюсь держать себя как можно дальше от всякой грязи, во-первых, потому, что я от природы чистоплотен, а во-вторых, потому, что горделивая осанка непременно внушает уважение и некоторый страх. Я знаю очень многих, которые далеко пошли, не владея ничем, кроме горделивой осанки. И притом, скажите на милость, что может быть общего между мною, человеком благовоспитанным, и этими мужиками, от которых так дурно пахнет?
Когда я был очень молод, то имел на предстоявшую мне деятельность весьма наивный и оригинальный взгляд. Я мечтал о каких-то патриархальных отношениях, о каких-то детях, которых нужно иногда вразумлять, иногда на коленки ставить. Хороши дети! Согласитесь, по крайней мере, что если и есть тут дети, то, во всяком случае, се ne sont pas des enfants de bonne maison [это не дети из хорошей семьи (франц. )].
Теперь, при большей зрелости рассудка, я смотрю на этот предмет несколько иначе. В моих глазах целый мир есть не что иное, как вещество, которое, в руках искусного мастера, должно принимать те или другие формы. Я уважаю только чистую идею, которая ничему другому покориться не может, кроме законов строгого, логического развития. Чистая идея -- это нечто существующее an und fЭr sich [в себе и для себя (нем.)], вне всяких условий, вне пространства, вне времени; она может жить и развиваться сама из себя: скажите же на милость, зачем ей, при таких условиях, совершенно обеспечивающих ее существование, натыкаться на какого-нибудь безобразного Прошку, который может даже огорчить ее своим безобразием? Чистая идея -- нечто до того удивительное по своему интимному свойству все проникать, все перерабатывать, что рассудок теряется и меркнет при одном представлении об этом всесильном могуществе. Нет той козявки, нет того атома в целой природе, который ускользнул бы от влияния ее. Она все в себя вбирает, и это все, пройдя сквозь неугасимые и жестокие огни чистого творчества, выходит оттуда очищенное от всего случайного, "прошковатого" (производное от Прошки), выглаженное, вычищенное, неузнаваемое. Каким образом, или, лучше сказать, каким колдовством происходит там эта работа, эта чистка -- никому не известно, но не подлежит никакому сомнению, что работа и чистка существуют, что машина без отдыха работает своими колесами и никакие человеческие силы не остановят ее...
Говорят, будто необходимо изучить нужды и особенности края, чтобы уметь им управлять с пользою. Mon cher, je vous dirai franchement que tout Гa -- c'est des utopies [Дорогой мой, я скажу вам откровенно, что все это -- утопии (франц.)]. Какие могут быть тут нужды? Ну, я спрашиваю вас? Знает ли он, для чего ему дана жизнь? Может ли он понять, se faire une idХe [составить себе представление (франц.)] о том, что такое назначение человека? Non, non, non et cent fois non! Je vous le donne en mille [Нет, нет, нет и сто раз нет! Я ручаюсь вам за тысячу (франц.)], соберите вы тысячу человек и переспросите у каждого из них поодиночке, что такое государство? -- ни один вам не ответит. Они знают там своих коров, своих баб, свой навоз. Какие же тут нужды, какие тут особенности края!
Говорят также некоторые любители просвещения, что нужно распространять грамотность, заводить школы, учить арифметике. Eh bien, je vous dirai [Так вот я вам скажу (франц.)], что если мы их образуем, выучим арифметике, конец нашим высшим соображениям, c'est sur et certain comme deux fois deux font quatre [это столь же несомненно, как дважды два -- четыре (франц.)]. Тут наплодится целое стадо ябедников, с которым и не сладишь, пожалуй. Entre nous soit dit [Между нами говоря (франц.)], как человек молодой, я почти обязан сочувствовать Ю toutes ces idХes gХnХreuses [всем этим благородным идеям (франц.)], но -- скажу вам по секрету -- в них тьма-тьмущая опечаток. Сивилизация -- это такое тонкое, нежное вещество, которое нельзя по произволу бросать в грязь; грязь от этого не высохнет, а только даст зловредные испарения qui empesteront le monde entier [которые заразят весь мир (франц.)]. Это всё оттуда, с Запада, все эти выдумки к нам прилезают, а то и невдомек никому, что грамотность еще не пришлась по нашему желудку. Есть умная русская пословица: "Что русскому здорово, то немцу смерть"; по нужде, эту пословицу и наоборот пустить можно. Я, знаете, люблю иногда прибегать к русским пословицам, потому что они ко всему как-то прилаживаются. Конечно, есть и другая пословица: "Ученье свет, а неученье тьма", -- но тут, очевидно, говорится о настоящем ученье, то есть о таком, которое... vous concevez?.. [вы понимаете?.. (франц.)] Я опять-таки не обскурант; я желаю, я изо всех сил требую учения и просвещения, но настоящего просвещения, то есть такого, о котором говорится в вышеприведенной пословице.
Вы мне скажете, что грамотность никто и не думает принимать за окончательную цель просвещения, что она только средство; но я осмеливаюсь думать, что это средство никуда не годное, потому что ведет только к тому, чтобы породить целые легионы ябедников и мироедов. Только истинно просвещенный плотник может пользоваться топором, истинно просвещенный повар ножом, ибо, не имей они этого "истинного" просвещения, они непременно зарежутся этими полезными инструментами. Слесарь, которого души коснулось истинное просвещение, поймет, что замок и ключ изобретены на то, чтобы законный владелец ящика, шкафа или сундука мог запирать и отмыкать эти казнохранилища; напротив того, слесарь-грамотей смотрит на это дело с своей оригинальной точки зрения: он видит в ключе и замке лишь средство отмыкать казнохранилища, принадлежащие его ближнему. Итак, прежде нежели распространять грамотность, необходимо распространить "истинное" просвещение. Вам, может, странно покажется, что тут дело как будто с конца начинается, но иногда это, так сказать, обратное шествие необходимо и вполне подтверждается русскою пословицей: "Не хвались идучи на рать..."
Но довольно о грамотности, возвратимся к прежнему предмету. Многие восстают на принцип чистой творческой администрации за то, что она стремится проникнуть все жизненные силы государства. Но, спрашиваю я вас, что же тут худого, какой от этого кому вред, и может ли, наконец, быть иначе, чтобы принцип, всеобщий и энергический, не поработил себе явлений случайных и преходящих? Восставать против этого не значит ли вопиять против истории, отказываться от своего прошлого, от своего настоящего? Оглянитесь кругом себя -- все, что вы ни видите, все это плоды администрации: областные учреждения -- плод администрации, община -- плод администрации, торговля -- плод администрации, фабричная промышленность -- плод администрации. Как соединишь, знаете, все это в один фокус, так оно делается виднее. Vous allez me dire que e'est dХsolant [Вы скажете мне, что это печально (франц.)], а я вам доложу, что совсем напротив. Все это идет, и идет довольно стройно; стало быть, все имеет свой raison d'Йtre [основание (франц.)]. Если бы мы самобытно развивались, бог знает, как бы оно пошло; может быть, направо, а может быть, и налево.
Вообще у нас в моде заниматься разными предположениями, рассуждать о покорении и призвании и проч... Вот и вы теперь вышли из школы, так тоже, чай, думаете, что все это вопросы первостепенной важности!
Да вы поймите, поймите же наконец, что нечего рассуждать о том, что было бы, если б мы вверх ногами, а не головой ходили! А потому все эти нелепые толки о самобытном развитии в высшей степени волнуют меня.
Надо пожить между них, в этом безобразии, вот как мы с вами живем, побывать на всех этих сходках, отведать этой яичницы -- тогда другое запоешь. Самобытность! просвещение! Скажите на милость, зачем нам тревожить их? И если они так любят отдыхать, не значит ли это que le sommeil leur est doux? [что сон им сладок? (франц.)]
Слова нет, надо между ними вводить какие-нибудь новости, чтоб они видели, что тут есть заботы, попечения, и все это, знаете, неусыпно, -- но какие новости? Вот я, например, представил проект освещения изб дешевыми лампами. Это и само по себе полезно, и вместе с тем удовлетворяет высшим соображениям, потому что l'armХe, mon cher, demande des soldats bien porlants [армия, дорогой мой, требует здоровых солдат (франц.)], а они там этой лучиной да дымом бог знает как глаза свои портят.
Mais vous n'avez pas l'idee [Но вы не представляете себе (франц.)], как у них все это тупо прививается. Вспомните, например, про картофель. Согласитесь, что это в крестьянском быту подспорье! Подспорье ли это, спрашиваю я вас? А коль скоро подспорье, следовательно -- вещь полезная; а коль скоро это полезно, то надобно его вводить -- est-ce clair, oui ou non? Et bien, je vous jure sur mes grands dieux [ясно это или нет? Так вот, клянусь вам всеми святыми (франц.)], у нас было столько tracas [хлопот (франц.)] с этим картофелем! точно мы их в языческую веру обращали.
И после этого говорят и волнуются, что чиновники взятки берут! Один какой-то шальной господин посулил даже гаркнуть об этом на всю Россию. Конечно, я этого не оправдываю: с'est vilain, il n'y a rien Ю dire [это гадко, что и говорить (франц.)], но почему же они берут? Почему они берут, спрашиваю я вас? Не потому ли, что чиновник все-таки высший организм относительно всей этой массы? Ведь как вы себе хотите, а если б было в ней что-нибудь живое, состоятельное, то не могли бы существовать и производить фурор наши приятные знакомцы: Фейеры, Техоцкие и проч. и проч.
Следовательно, все это, что ни существует, оправдывается и исторически, и физиологически, и этнографически... tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes [все идет к лучшему в этом лучшем из миров (франц.)], как удостоверяет наш общий приятель, доктор Панглосс.
Поверьте мне, я много обдумывал этот предмет и не на ветер вам говорю. Все это именно точно так, как я вам докладываю, и если кто-нибудь будет удостоверять вас в противном, кланяйтесь ему от меня.
А впрочем, не распить ли нам бутылочку старенького? у меня есть такое, что пальчики оближешь!"
НАДОРВАННЫЕ
"Если вы захотите узнать от крутогорских жителей, что я за человек, вам наверное ответят: "О, это собака!" И я не только смиренно преклоняюсь перед этим прозвищем, но, коли хотите, несколько даже горжусь им.
Репутация эта до такой степени утвердилась за мной, что если моему начальнику не нравится физиономия какого-нибудь смертного, он ни к кому, кроме меня, не взывает об уничтожении этого смертного. "Любезный Филоверитов, -- говорит он мне, -- у такого-то господина NN нос очень длинен; это нарушает симметрию администрации, а потому нельзя ли, carissimo [дражайший (итал. )]..." И я лечу исполнить приказание моего начальника, я впиваюсь когтями и зубами в ненавистного ему субъекта и до тех пор не оставляю его, пока жертва не падает к моим ногам, изгрызенная и бездыханная.
Мягкость сердца не составляет моего отличительного качества. Скажу даже, что в то время, когда я произвожу травлю, господин NN, который, в сущности, представляет для меня лицо совершенно постороннее, немедленно делается личным моим врагом, врагом тем более для меня ненавистным, чем более он употребляет средств, чтобы оборониться от меня. Я внезапно вхожу во все виды моего начальника; взор мой делается мутен, у рта показывается пена, и я грызу, грызу до тех пор, пока сам не упадаю от изнеможения и бешенства... Согласитесь сами, что в этом постоянном, неестественном напряжении всех струн души человеческой есть тоже своя поэтическая сторона, которая, к сожалению, ускользает от взора пристрастных наблюдателей.
И не то чтоб я был, в самом деле, до того уж озлоблен, чтобы несчастие ближнего доставляло мне неизреченное удовольствие... совсем нет! Но я строго различаю мою обыденную, будничную деятельность от деятельности служебной, официяльной. В первой сфере я -- раб своего сердца, раб даже своей плоти, я увлекаюсь, я умиляюсь, я делаюсь негодным человеком; во второй сфере -- я совлекаю с себя ветхого человека, я отрешаюсь от видимого мира и возвышаюсь до ясновиденья. Если злоба и желчь недостаточно сосут мое сердце, я напрягаю все силы, чтоб искусственными средствами произвести в себе болезнь печени.
В большей части случаев я успеваю в этом. Я столько получаю ежедневно оскорблений, что состояние озлобления не могло не сделаться нормальным моим состоянием. Кроме того, жалованье мое такое маленькое, что я не имею ни малейшей возможности расплыться в материяльных наслаждениях. Находясь постоянно впроголодь, я с гордостью сознаю, что совесть моя свободна от всяких посторонних внушений, что она не подкуплена брюхом: как у этих "озорников", которые смотрят на мир с высоты гастрономического величия.
Фамилия моя Филоверитов. Это достаточно объясняет вам, что я не родился ни в бархате, ни в злате. Нынешний начальник мой, искавший для своих домашних потребностей такую собаку, которая сочла бы за удовольствие закусать до смерти других вредоносных собак, и видя, что цвет моего лица отменно желт, а живот всегда подобран, обратил на меня внимание.
-- Чувствуешь ли ты в себе столько силы, -- сказал он мне, -- чтоб быть всегда озлобленным, всегда готовым бодро и злокачественно следовать указанию перста моего?
Я сошел в свою совесть и убедился, что в состоянии оправдать возложенные на меня надежды. Я посредством целого ряда ясных и строгих силлогизмов дошел до убеждения, что человек официяльный не имеет права обладать ни одним из пяти чувств, составляющих неотъемлемую принадлежность обыкновенного человека. Что я такое и что значу в этой громаде администрации, которая пугает глаза, поражает разум сложностью и цепкостью всех частей своего механизма? Я не больше как ничтожный атом, который фаталистически осужден на те или другие отправления и который ни на пядь не может выйти из очарованного круга, начертанного для него невидимою рукой! Какое право предъявлю я, чтоб иметь свое убеждение? И кому оно нужно, это убеждение? Однажды я как-то осмелился заикнуться перед моим начальником, что по моему мнению... так он только поглядел на меня, и с тех пор я более не заикался. И он был прав...
С этой поры все у нас идет ладно и гладко. Не скрою от вас, что это постоянное заказное озлобление иногда утомляет меня. Бывают времена, что вся спинная кость как будто перешибена, и ходишь весь сгорбленный... Но это только на время: почуется в воздухе горечь, получается новое приказание, вызывающее к деятельности, и я, как почтовая лошадь, распрямляю разбитые ноги и скачу по камням и щебню, по горам и оврагам, по топям и грязи. Ноги у меня искровавлены, дыханье делается быстро и прерывисто, как у пойманной крысы, но я все-таки останавливаюсь только затем, чтобы вновь скакать, не переводя духу.
Эта скачка очень полезна; она поддерживает во мне жизнь, как рюмка водки поддерживает жизнь в закоснелом пьянице. Посмотришь на него: и руки и ноги трясутся, словно весь он ртутью налит, а выпил рюмку-другую -- и пошел ходить как ни в чем не бывало. Точно таким образом и я: знаю, что на мне лежит долг, и при одном этом слове чувствую себя всегда готовым и бодрым. Не из мелкой корысти, не из подлости действую я таким образом, а по крайнему разумению своих обязанностей, как человека и гражданина.
Деятельность моя была самая разнообразная. Был я и следователем, был и судьею; имел, стало быть, дело и с живым материялом, и с мертвою буквою, но и в том и в другом случае всегда оставался верен самому себе или, лучше сказать, идее долга, которой я сделал себя служителем.
Следственную часть вы знаете: в ней представляется столько искушений, если не для кармана, то для сердца, что трудно овладеть собой надлежащим образом. И я вам откровенно сознаюсь, что эта часть не по нутру мне; вообще, я не люблю живого материяла, не люблю этих вздохов, этих стонов: они стесняют у меня свободу мысли. Расскажу вам два случая из моей полицейской деятельности, -- два случая, которые вам дадут понятие о том, с какими трудностями приходится иногда бороться неподкупному следователю.
Первый случай был в Черноборском уезде. В селе Березине произошел пожар; причина пожара заключалась в поджоге, признаки которого были слишком очевидны, чтобы дать место хотя малейшему сомнению. Оставалось раскрыть, кто был виновником поджога, и был ли он умышленный или неумышленный. Среди разысканий моих по этому предмету являются ко мне мужик и баба, оба очень молодые, и обвиняют себя в поджоге избы. При этом рассказывают мне и все малейшие подробности поджога с изумительною ясностию и полнотою.
-- Что ж побудило вас решиться на этот поджог?
Молчание.
-- Вы муж и жена?
Оказывается, что они друг другу люди посторонние, но что оба уже несвободны - он женат, а она замужем.
-- Знаете ли вы, чему подвергаетесь за поджог?
-- Знаем, батюшка, знаем, -- говорят оба, и говорят довольно весело.
Одно только показалось мне странным: по какому случаю баба и мужик, совершенно друг другу посторонние, вместе совершают столь тяжкое преступление. Если б не это сомнение, то оставалось бы только поверить их показанию и отослать дело в судебное место. Но я не могу успокоиться до тех пор, пока не разберу дело от а до z. И действительно, по поверке показания, оно оказалось вполне согласным с обстоятельствами, в которых совершился поджог; но когда я приступил к разъяснению побудительных причин преступления -- что бы вы думали я открыл? Открыл я, что два поименованные субъекта давным-давно находятся в интимной связи.
-- К чему же тут поджог? -- спрашиваю я обвиненных, предварительно уличив их в непозволительной связи.
Оба молчат. Я увещеваю их, объясняю, что побудительные причины часто имеют влияние на смягчение меры наказания.
-- А какое будет нам наказанье? -- спрашивает мужик.
Я объяснил ему, и вижу, что оба поникли головами. После многих настояний оказывается наконец, что они любили друг друга, и, должно быть, страстно, потому что задумали поджог, в чаянье, что их сошлют за это на поселенье в Сибирь, где они и обвенчаться могут.
Надо было видеть их отчаянье и стоны, когда они узнали, что преступление совершено было ими напрасно. Я сам был поражен моим открытием, потому что, вместо повода к смягчению наказания, оно представляло лишь повод к усугублению его...
Признаюсь вам, мне было тяжко бороться с совестью; с одной стороны представлялось мне, что поджог тут обстоятельство совершенно постороннее, что самое преступление, как оно ни велико, содержит в себе столько наивных, столько симпатичных сторон; с другой стороны вопиял иной голос, -- голос долга и службы, доказывавший мне, что я, как следователь, не имею права рассуждать и тем менее соболезновать...
Что бы вы сделали на моем месте? Может быть, оправили бы виновных или, по крайней мере, придумали для них такой исход, который значительно бы облегчил их участь? Я сам был на волос от этого, но восторжествовал...
Другой случай был в Оковском уезде. Жили муж с женой, жили лет пять мирно и согласно. Детей у них не было; однако ж это не мешало тому, что в семействе мужа сноху любили, а муж, бывало, не надышится красоткой женой. Вдруг, ни с того ни с сего, стала жена мужа недолюбливать. То перечит мужу беспричинно, то грозит извести его. Дурит баба, да и полно. Впоследствии я очень старался раскрыть это обстоятельство, однако ж, с какой стороны ни принимался за дело, не мог дознать ничего даже приблизительного. Бил я и на то, что какая-нибудь скрытая связишка у бабы была; однако и семьяне, и весь мир удостоверили, что баба во всех отношениях вела себя примерно; бил и на то, что, быть может, ревность бабу мучила, -- и это оказалось неосновательным. Сам даже мужик, когда она ему сулила извести, только смеялся: все думал, что баба обсеменилась, да и привередничает от этого. Только рано ли, поздно ли, а эти привередничанья начали принимать серьезный характер. Думали-думали семейные -- принялись бабу лечить от "глазу". Наговаривали на воду, сыпали в пищу порошок из какого-то корня. А баба все говорит: "Свяжите мне, родимые, рученьки, смерть хочется зашибить Петруню". Однако они предосторожностей особенных не приняли, и вот, в одно прекрасное утро, бабенка, зная, что муж на дворе колодезь копать зачал, подошла к самой яме и начала его звать. Только что успел он высунуть из ямы свою голову, как она изо всей силы хвать ему острием косы по голове. К счастию, удар пришелся вскользь, и мужик отделался только глубокою раной и страхом.
Когда я производил это следствие, муж в ногах у меня валялся, прося пощадить жену; вся семья стояла за нее; повальный обыск также ее одобрил. Но каким же образом объяснить это преступление? Помешательством ума? Но где же тот авторитет, на который я мог бы опереться?
И я принял это дело в том виде, как мне представляли его факты. Я не умствовал и не вдавался в даль. Я просто раскрыл, что преступление совершено, и совершено преднамеренно. Я не внял голосу сердца, которое говорило мне: "Пощади бедную женщину! она не знала сама, что делает; виновата ли она, что ты не в состоянии определить душевную болезнь, которою она была одержима?" Я не внял этому голосу по той простой причине, что я только следователь, что я tabula rasa [чистая доска (лат.)], которая обязана быть равнодушною ко всему, что на ней пишется.
Впоследствии времени я увидел эту самую женщину на площади, и, признаюсь вам, сердце дрогнуло-таки во мне, потому что в частной жизни я все-таки остаюсь человеком и с охотою соболезную всем возможным несчастиям...
Но я вам сказал уже, что следственной части не люблю, по той главной причине, что тут живой материял есть. То ли дело судейская часть! Тут имеешь дело только с бумагою; сидишь себе в кабинете, никто тебя не смущает, никто не мешает; сидишь и действуешь согласно с здравою логикой и строгою законностью. Если силлогизм построен правильно, если все нужные посылки сделаны, -- значит, и дело правильное, значит, никто в мире кассировать меня не в силах.
Я не схожу в свою совесть, я не советуюсь с моими личными убеждениями; я смотрю на то только, соблюдены ли все формальности, и в этом отношении строг до педантизма. Если есть у меня в руках два свидетельские показания, надлежащим порядком оформленные, я доволен и пишу: есть,- если нет их -- я тоже доволен и пишу: нет. Какое мне дело до того, совершено ли преступление в действительности или нет! Я хочу знать, доказано ли оно или не доказано, -- и больше ничего.
Кабинетно-силлогистическая деятельность представляет мне неисчерпаемые наслаждения. В нее можно втянуться точно так же, как можно втянуться в пьянство, в курение опиума и т. п. Помню я одну ночь. Обвиненный ускользал уже из моих рук, но какое-то чутье говорило мне, что не может это быть, что должно же быть в этом деле такое болото, в котором субъект непременно обязан погрязнуть. И точно; хотя долго я бился, однако открыл это болото, и вы не можете себе представить, какое наслаждение вдруг разлилось по моим жилам...
Вы можете, в настоящее время, много встретить людей одинакового со мною направления, но вряд ли встретите другого меня. Есть много людей, убежденных, как и я, что вне администрации в мире все хаос и анархия, но это большею частию или горлопаны, или эпикурейцы, или такие младенцы, которые приступиться ни к чему не могут и не умеют. Ни один из них не возвысился до понятия о долге, как о чем-то серьезном, не терпящем суеты, ни один не возмог умертвить свое я и принесть всего себя в жертву своим обязанностям.
Делают мне упрек, что манеры мои несколько жестки, что весь я будто сколочен из одного куска, что вид мой не внушает доверия и т. п. Странная вещь! от чиновника требовать грациозности! Какая в том польза, что я буду мил, любезен и предупредителен? Не лучше ли, напротив, если я буду стоять несколько поодаль, чтобы всякий смотрел на меня если не со страхом, то с чувством неизвестности?
В губерниях чиновничество и без того дошло до какого-то странного панибратства. Для того, чтобы выпить лишнюю рюмку водки, съесть лишний кусок лакомого блюда, а главное -- насытить свой нос зловонными испарениями лести и ласкательства, готовы лезть почти на преступление. "Это не взятка", -- говорят. Да, это не взятка, но хуже взятки. Взятку берет чиновник с осмотрительностью, а иногда и с невольным угрызением совести, а едучи на обед, он не ощущает ничего, кроме удовольствия. Рассудите сами, можете ли вы отказать в чем-нибудь человеку, который оказывал вам тысячу предупредительностей, тысячу маленьких услуг, которые ценятся не деньгами, а сердцем? Нет, и тысячу раз нет. Деньги можно назад отдать, если дело оказывается чересчур сомнительным, а невесомые, моральные взятки остаются навеки на совести чиновника и рано или поздно вылезут из него или подлостью, или казнокрадством.
А между тем посмотрите вы на наших губернских и уездных аристократов, как они привередничают, как они пыжатся на обеде у какого-нибудь негоцианта, который только потому и кормит их, чтобы казну обворовать поделикатнее. Фу ты, что за картина! Сидит индейский петух и хвост распустит -- ну, не подступишься к нему, да и только! Ан нет! покудова он там распускает хвост, в голове у него уж зреет канальская идея, что как, мол, не прибавить по копеечке такому милому, преданному негоцианту!
Скажите же на милость, каким тут образом не сделаться желчным человеком, когда кругом себя видишь только злоупотребления или такое нахальное самодовольство, от которого в груди сердце воротит!..
А впрочем, знаете ли, и меня начинает уж утомлять мое собственное озлобление; я чувствую, что в груди у меня делается что-то неладное: то будто удушье схватит, то начнет что-то покалывать, словно буравом сверлит... Как вы думаете, доживу ли я до лета или же, вместе с зимними оковами реки Крутогорки, тронется, почуяв весеннее тепло, и душа моя?.."
ТАЛАНТЛИВЫЕ НАТУРЫ
КОРЕПАНОВ
В провинции печоринство приняло совершенно своеобразные формы; оно утратило свой демонический характер, свою прозрачность и нежность, которыми в особенности привлекает к себе симпатии дам, и облеклось в свой будничный, плотяный наряд, вполне соответственный нашему северному климату, который, как известно, ничего прозрачного и легкого не терпит. Провинциальных Печориных такое множество разных сортов и видов, что весьма трудно исчерпать этот предмет подробно. Одни из них занимаются тем, что ходят в халате по комнате и от нечего делать посвистывают; другие проникаются желчью и делаются губернскими Мефистофелями; третьи барышничают лошадьми или передергивают в карты; четвертые выпивают огромное количество водки; пятые переваривают на досуге свое прошедшее и с горя протестуют против настоящего... Общее у всех этих господ: во-первых, "червяк", во-вторых, то, что на "жизненном пире" для них не случилось места, и, в-третьих, необыкновенная размашистость натуры. Но главное -- червяк. Этот глупый червяк причиною тому, что наши Печорины слоняются из угла в угол, не зная, куда приклонить голову; он же познакомил их ближайшим образом с помещиками: Полежаевым, Сопиковым и Храповицким. К сожалению, я должен сказать, что Печорины водятся исключительно между молодыми людьми. Старый, заиндевевший чиновник или помещик не может сделаться Печориным; он на жизнь смотрит с практической стороны, а на терния или неудобства ее как на неизбежные и неисправимые. Это блохи и клопы, которые до того часто и много его кусали, что сделались не врагами, а скорее добрыми знакомыми его. Он не вникает в причины вещей, а принимает их так, как они есть, не задаваясь мыслию о том, какими бы они могли быть, если бы... и т. д. Молодой человек, напротив того, начинает уже смутно понимать, что вокруг его есть что-то неладное, разрозненное, неклеящееся; он видит себя в странном противоречии со всем окружающим, он хочет протестовать против этого, но, не обладая никакими живыми началами, необходимыми для примирения, остается при одном зубоскальстве или псевдотрагическом негодовании. Коли хотите, тут и действительно есть червяк, но о свойствах и родопроисхождении его до сих пор не преподавали еще ни в одном университете, а потому и я, пишущий эти строки, предоставляю другим, более меня знающим, и в другой, более удобной для того форме, определить причины его зарождения и средства к исцелению.
У княжны Анны Львовны был детский бал, в котором, однако ж, взрослые принимали гораздо большее участие, нежели дети. Последние были тут, очевидно, ради одного спектакля, который мог доставить вящее удовольствие взрослым. Тут находились дети всех возможных сортов и видов, начиная от чумазых и слюнявых и кончая так называемыми "душками", составляющими гордость и утеху родителей. Чумазые веселились довольно шумно, нередко даже дрались между собою; они долгое время сначала сидели около маменькиных юпок, не решаясь вступить на арену веселия, но, однажды решившись, откровенно приняли княжеский зал за скотный двор и предались всей необузданности своих побуждений; напротив того, "душки" вели себя смирно, грациозно расшаркивались сперва одною ножкой, потом другою, и даже весьма удовлетворительно лепетали французские фразы. На этом же бале встретился со мной незнакомый молодой человек (я в то время только что прибыл в Крутогорск), Иван Павлыч Корепанов, который держал себя как-то особняком от взрослых и преимущественно беседовал с молодым поколением. Он был высокого роста, носил очки и длинные волосы, которые у него кудрявились и доходили до плеч. Лицо у него было довольно странное; несмотря на то что его нельзя было назвать дурным, оно как-то напоминало об обезьяне, и вследствие того скорее отталкивало от себя, нежели привлекало. Впрочем, быть может, это казалось еще и потому, что все мускулы этого лица были до такой степени подвижны, что оно ни на секунду не оставалось в покойном состоянии. Я заметил, что сидевшие по стенам залы маменьки с беспокойством следили за Корепановым, как только он подходил к их детищам, и пользовались первым удобным случаем, чтобы оторвать последних от сообщества с человеком, которого они, по-видимому, считали опасным.
-- Вы не знакомы с мсьё Корепановым? -- спросила меня княжна, заметив, что я вглядываюсь в него, -- хотите, я вас друг другу представлю?
Через минуту мы уже были знакомы и беседовали.
-- Итак, вы тоже удостоились побывать в Крутогорске, -- сказал он мне, -- поживите, поживите у нас! Это, знаете, вас немножко расхолодит.
-- А вы давно здесь?
-- Обо мне говорить нечего: я человек отпетый!.. А вас вот жалко!
-- Вы говорите о Крутогорске, точно это и бог знает какое страшилище!
-- Страшилище не страшилище -- нет у него достаточно данных, чтоб быть даже порядочным страшилищем, -- а помойная таки яма порядочная!.. И какие зловонные испарения от нее поднимаются, если б вы знали?
-- Чем же вы здесь занимаетесь?
-- А у меня занятие очень странное... это даже, коли хотите, уж и не занятие, а почти официяльная должность: я крутогорский Мефистофель...
-- Действительно, это странно.
-- Вы удивляетесь, но это только теперь, покуда вы не обжились у нас... Поживите, и увидите, что здесь всякий человек обязывается носить однажды накинутую на себя ливрею бессменно и неотразимо. У нас все так заранее определено, так рассчитано, такой везде фатализм, что каждый член общества безошибочно знает, что думает в известную минуту его сосед... Вот я, например, наверно знаю, что Анфиса Ивановна -- вот эта дама в полосатой шали, которую она в прошлом году устроила из старых панталон своего мужа, -- совершенно уверена, что я в настоящую минуту добела перемываю с вами косточки наших ближних...
-- Только уж не со мною, потому что я тут ни при чем...
-- Ну, положим, хоть и ни при чем, но все-таки она вас уже считает моим соучастником... Посмотрите, какие умоляющие взоры она кидает на вас! так, кажется, и говорит: не верь ему, этому злому человеку, шаль моя воистину новая, взятая в презент... тьфу, бишь! купленная в магазине почетного гражданина Пазухина!
-- Я думаю, что эти ближние не должны чувствовать к вам особенного сердечного влечения?
-- Не скажу этого; они знают, что ругать их мое назначение, моя служба, так сказать... Конечно, иногда не обходится без того, чтоб посердиться, но мы ведь свои люди и действуем по пословице: "Милые дерутся -- только тешатся". Я уверен, что если б я оставил свое ремесло, они перестали бы уважать меня; мало того, они бы соскучились! Иногда мне случается быть несколько времени в отсутствии по делам службы -- не этой, а действительной службы, -- так, поверите ли, многие даже плачут: скоро ли-то наш Иван Павлыч воротится? спрашивают.
-- Однако ж, это незаметно, потому что вас, по-видимому, здесь обегают.
-- Это только по-видимому, а в сущности, верьте мне, все сердца ко мне несутся... Они только опасаются моих разговоров с детьми, потому что дети -- это такая неистощимая сокровищница для наблюдений за родителями, что человеку опытному и благонамеренному стоит только слегка запустить руку, чтоб вынуть оттуда целые пригоршни чистейшего золота!.. Иван Семеныч! Иван Семеныч! пожалуйте-ка сюда!
К нам подбежал мальчик лет пяти, весь завитой, в бархатной зеленой курточке и таковых же панталонцах.
-- Рекомендую вам! Иван Семеныч Фурначев, сын статского советника Семена Семеныча Фурначева, который, двадцать лет живя с супругой, не имел детей, покуда наконец, шесть лет тому назад, не догадался съездить на нижегородскую ярмарку. По этому-то самому Иван Семеныч и слывет здесь больше под именем антихриста... А что, Иван Ссменыч, подсмотрел ты сегодня после обеда, как папка деньги считает?
-- Нельзя, -- отвечал мальчик.
-- Отчего же нельзя? я тебя учил ведь: спрятаться под кресло, которое в углу, и оттуда подсмотреть... Как вы осмелились меня ослушаться, милостивый государь?
-- Нельзя; папка видел.
-- Стало быть, ты спрятался?
-- Спрятался.
-- Стало быть, ты все-таки что-нибудь видел?
-- Сначала папка вынул много бумаг и всё считал, потом вынул много денег -- и всё считал!
-- А потом, верно, и тебя увидел, да за уши из-под кресла и вытащил? Ну, теперь отвечай: какая на тебе рубашка?
-- Батистовая.
-- Хорошо. А какую рубашку носил твой папка в то время, когда к отческому дому гусей пригонял?
-- Посконную.
-- А откуда взял папка деньги, чтоб тебе батистовую рубашку сшить?
-- Украл.
-- Jean, пойдем со мной, -- сказала госпожа Фурначева, подходя к нам, -- он, верно, надоедает вам своими глупостями, господа?..
-- Помилуйте, Настасья Ивановна, может ли такое прелестное дитя надоесть?.. Он так похож на Семена Семеныча!
-- Скажите, однако ж, неужели у вас не найдется других занятий? -- спросил я, когда от нас отошла госпожа Фурначева.
-- А чем мои занятия худы? -- спросил он в свою очередь, -- напротив того, я полагаю, что они в высшей степени нравственны, потому что мои откровенные беседы с молодым поколением поселяют в нем отвращение к тем мерзостям, в которых закоренели их милые родители... Да позвольте полюбопытствовать, о каких это "других" занятиях вы говорите?
-- Да вы где же нибудь и чему-нибудь да учились?
-- Учился, это правда, то есть был в выучке. Но вот уже пять лет, как вышел из учения и поселился здесь. Поселился здесь я по многим причинам: во-первых, потому что желаю кушать, а в Петербурге или в Москве этого добра не найдешь сразу; во-вторых, у меня здесь родные, и следовательно, ими уж насижено место и для меня. В Петербурге и в Москве хорошо, но для тех, у кого есть бабушки и дедушки, да сверх того родовое или благоприобретенное. Но у меня ничего этого нет, и я еще очень живо помню, как в годы учения приходилось мне бегать по гостиному двору и из двух подовых пирогов, которые продаются на лотках официянтами в белых галстуках, составлять весь обед свой... Конечно, как воспоминание, это еще может иметь свою прелесть, но смею вас уверить, что в настоящее время я не имею ни малейшего желания, даже в течение одной минуты, быть впроголодь... И ведь какие это были подовые пироги, если б вы знали! честью вас заверяю, что они отзывались больше сапогами, нежели пирогами!
-- Но разве и в провинции нельзя найти для себя более дельного занятия?
-- На этот вопрос я отвечу вам немедленно, а покуда позвольте мне познакомить вас еще с одним милым молодым человеком... Николай Федорыч! пожалуйте-ка, милостивый государь, сюда!..
Николай Федорыч мальчик лет семи и, в сущности, довольно похож на Ивана Семеныча, только одет попроще: без бархатов и батиста.
-- Позвольте мне вас спросить, Николай Федорыч, какое самое золотое правило на свете?
-- Не посещай воров, ибо сам в скором времени можешь сделаться таковым, -- пролепетал скороговоркою мальчик.
-- Отлично-с; вот вам за это конфетка. Этим мудрым изречением, почерпнутым из прописей, встретил меня Николай Федорыч однажды, когда я посетил его папашу, многоуважаемого и добрейшего Федора Николаича, -- сказал Корепанов, обращаясь ко мне.
-- Теперь я буду продолжать с вами прерванный разговор, -- продолжал он, когда мальчик ушел, -- вы начали, кажется, с вопроса, учился ли я чему-нибудь, и я отвечал вам, что, точно, был в выучке. Какая была тому причина -- этого я вам растолковать не могу, но только ученье не впрок мне шло. Я, милостивый государь, человек не простой; я хочу, чтоб не я пришел к знанию, а оно меня нашло; я не люблю корпеть над книжкой и клевать по крупице, но не прочь был бы, если б нашелся человек, который бы знание влил мне в голову ковшом, и сделался бы я после того мудр, как Минерва... Все, что я в молодости моей от умных людей с кафедры слышал, все это только раззадорило меня или, лучше сказать, чувственно растревожило мои нервы... Потом, как я вам уже докладывал, оставил я храм наук и поселился, по необходимости, в Крутогорске... И вы не можете себе представить, в каком я был сначала здесь упоении! Молодой человек, кончивший курс наук, приехавший из Петербурга, бывавший, следовательно, и в аристократических салонах (ведь чем черт не шутит!), наглядевшийся на итальянскую оперу -- этого слишком достаточно, чтобы произвести общий фурор. И бабье это действительно до такой степени на меня накинулось, что даже вспомнить тошно! И вот-с, сел я в эту милую колясочку и катаюсь в ней о сю пору... Что прежде знал, все позабыл, а снова приниматься за черепословие -- головка болит.
Сказав это, он взглянул на меня как-то особенно выразительно, так что я мог ясно прочитать на лице его вопрос: "А что! верно, ты не ожидал встретить в глуши такого умного человека?"
-- Знаете, -- продолжал он, помолчав с минуту, -- странная вещь! никто меня здесь не задевает, все меня ласкают, а между тем в сердце моем кипит какой-то страшный, неистощимый источник злобы против всех их! И совсем не потому, чтобы я считал их отвратительными или безнравственными -- в таком случае я презирал бы их, и мне было бы легко и спокойно... Нет, я злобствую потому, что вижу на их лицах улыбку и веселие, потому что знаю, что в сердцах их царствует то довольство, то безмятежие, которых я, при всех своих благонамеренных и высоконравственных воззрениях, добиться никак не могу... Мне кажется, что самое это довольство есть доказательство, что жизнь их все-таки не прошла даром и что, напротив того, беснование и вечная мнительность, вроде моих, -- признак натуры самой мелкой, самой ничтожной... вы видите, я не щажу себя! И я ненавижу их, ненавижу всеми силами души, потому что желал бы отнять в свою пользу то уменье пользоваться дарами жизни, которым они вполне обладают...
-- А мне кажется, вы все это напустили на себя, -- отвечал я, -- а в сущности, если захотите, можете сделать и вы много полезного в той маленькой сфере, которая назначена для нашей деятельности.
-- Если вы поживете в провинции, то поймете и убедитесь в совершенстве, что самая большая польза, которую можно здесь сделать, заключается в том, чтобы делать ее как можно меньше. С первого раза вам это покажется парадоксом, но это действительно так.
-- Докажите же мне это, потому что я не могу и не имею права верить вам на слово.
-- Доказательства представит вам за меня самая жизнь, а я, признаюсь вам, даже не в состоянии правильно построить вам какой-нибудь силлогизм... Для этого необходимо рассуждать, а я давно уж этим не занимался, так что и привычку даже потерял.
-- Ну, теперь, благодаря мсьё Корепанову, вы, верно, уж достаточно знакомы со всем крутогорским обществом? -- перебила княжна Анна Львовна, садясь возле меня.
-- Нет еще, княжна, -- отвечал Корепанов, -- Николай Иваныч покамест более познакомился со мной, нежели с здешним обществом... Впрочем, здешнее общество осязательно изобразить нельзя: в него нужно самому втравиться, нужно самому пожить его жизнью, чтоб узнать его. Здешнее общество имеет свой запах, а свойство запаха, как вам известно, нельзя объяснить человеку, который никогда его не обонял.
-- Вы злой человек, мсьё Корепанов!
-- Это мой долг, княжна. И притом вы не совсем благодарны; если б меня не было, кто бы мог доставить вам столько удовольствия, сколько доставляю, например, я своим злоречием? Согласитесь сами, это услуга немаловажная! Конечно, я до сих пор еще не принес никакой непосредственной пользы: я не вырыл колодца, я не обжигал кирпичей, не испек ни одного хлеба, но взамен того я смягчал нравы, я изгонял меланхолию из сердец и поселял в них расположение к добрым подвигам... вот прямые заслуги моей юмористической деятельности!
-- А что он обо мне сказал, мсьё Щедрин?
-- До вас еще не дошла очередь, княжна... До сих пор мы с Николаем Иванычем об том только говорили, что мир полон скуки и что порядочному человеку ничего другого не остается... но угадайте, на чем мы решили?
-- Умереть?
-- Гораздо проще: отправиться домой и лечь спать...
И он действительно встал, зевнул, посмотрел лениво по сторонам и побрел из залы.
-- Странный человек! и, однако ж, с большими способностями!.. une bonne tЙte! [хорошая голова! (франц.)] -- задумчиво сказала княжна, провожая его взором.
ЛУЗГИН
Господи! как время-то идет! давно ли, кажется, давно ли! Давно ли в трактире кипели горячие споры об искусстве, об Мочалове, о Гамлете? давно ли незабвенная С*** приводила в неистовство молодые сердца? давно ли приводили мы в трепет полицию?
Лузгин! мой милый, бесценный Лузгин! каким-то я застану тебя? все так же ли кипит в тебе кровь, так же ли ты безрасчетно добр и великодушен, по-прежнему ли одолевает тебя твоя молодость, которую тщетно усиливался ты растратить и вкривь и вкось - до того обильна, до того неистощима была животворная струя ее? Или уходили сивку крутые горки? или ты... но нет, не может это быть!
Так, или почти так, думал я, подъезжая к усадьбе друга моей молодости, Павла Петровича Лузгина. Прошло уж лет пятнадцать с тех пор, как мы не видались, и я совершенно нечаянно, находясь по службе в Песчанолесье, узнал, что Лузгин живет верстах в двадцати от города в своей собственной усадьбе. Признаюсь откровенно, при этом известии что-то мягкое прошло по моей душе, как будто до такой степени пахнуло туда весной, что даже нос мой совершенно явственно обонял этот милый весенний запах, который всегда действует на меня весело. Весна и молодость -- вот те два блага, которые творец природы дал в утешение человеку за все огорчения, встречающиеся на жизненном пути. Весною поют на деревьях птички; молодостью, эти самые птички поселяются на постоянное жительство в сердце человека и поют там самые радостные свои песни; весною, солнышко посылает на землю животворные лучи свои, как бы вытягивая из недр ее всю ее роскошь, все ее сокровища; молодостью, это самое солнышко просветляет все существо человека, оно, так сказать, поселяется в нем и пробуждает к жизни и деятельности все те богатства, которые скрыты глубоко в незримых тайниках души; весною, ключи выбрасывают из недр земли лучшие, могучие струи свои; молодостью, ключи эти, не умолкая, кипят в жилах, во всем организме человека; они вечно зовут его, вечно порывают вперед и вперед... Отлично, что весна каждый год возвращается, и с каждым годом все как будто больше и больше хорошеет, но худо, что молодость уж никогда не возвращается. Самый ли процесс жизни нас умаивает, или обстоятельства порастрясут дорогой кости, только сердце вдруг оказывается такое дрябленькое, такое робконькое, что как начнешь самому о себе откровенно докладывать, так и показывается на щеках, ни с того ни с сего, девический румянец... Да хорошо еще, если румянец; худо, что иногда и его-то не оказывается в наличности.
Когда я вошел в залу, Лузгин и семейство его сидели уж за обедом, хотя был всего час пополудни.
-- Щедрин!
-- Лузгин!
Мы бросились друг другу в объятия; но тут я еще больше убедился, что молодость моя прошла безвозвратно, потому что, несмотря на радость свидания, я очень хорошо заметил, что губы Лузгина были покрыты чем-то жирным, щеки по местам лоснились, а в жидких бакенбардах запутались кусочки рубленой капусты. Нет сомнения, что будь я помоложе, это ни в каком случае не обратило бы моего внимания.
-- По углам, бесенята! -- закричал он на детей, которые, повыскакав из-за стола, обступили нас, -- жена! рекомендую: Щедрин, друг детства и собутыльник!
Я взглянул на его жену; это была молодая и свежая женщина, лет двадцати пяти; по-видимому, она принадлежала к породе тех женщин, которые никогда не стареются, никогда не задумываются, смотрят на жизнь откровенно, не преувеличивая в глазах своих ни благ, ни зол ее. Взгляд ее был приветлив, доверчив и ясен; он исполнялся какой-то кроткой, почти материнской заботливости, когда обращался на Лузгина; голос был свеж и звонок; в нем слышалась еще та полнота звука, которая лучше всего свидетельствует о неиспорченной и неутомленной натуре. Она никогда не оставалась праздною, и всякому движению своему умела придать тот милый оттенок заботливости, который женщине, а особенно матери семейства, придает какую-то особенную привлекательность. Вообще такие женщины составляют истинный клад для талантливых натур, которые в семействе любят играть, по преимуществу, роль трутней.
-- Очень рада, -- сказала она, протягивая мне маленькую ручку, -- Полиньке очень приятно будет провести время с старым товарищем!
-- Полиньке! Сколько раз просил я тебя, Анна Ивановна, не называть меня Полинькой! -- заметил он полушутя, полудосадуя и, обратясь ко мне, прибавил: -- Вот, брат, мы как! в Полиньки попали!
Тут я в первый раз взглянул на него попристальнее. Он был в широком халате, почти без всякой одежды; распахнувшаяся на груди рубашка обнаруживала целый лес волос и обнаженное тело красновато-медного цвета; голова была не прибрана, глаза сонные. Очевидно, что он вошел в разряд тех господ, которые, кроме бани, иного туалета не подозревают. Он, кажется, заметил мой взгляд, потому что слегка покраснел и как будто инстинктивно запахнул и халат и рубашку.
-- А мы здесь по-деревенски, -- сказал он, обращаясь ко мне, -- солнышко полдничает -- и мы за обед, солнышко на боковую -- и мы хр-хр... -- прибавил он, ласково поглядывая на старшего сынишку.
Дети разом прыснули.
-- Эй, живо! подавать с начала! -- продолжал он. -- Признаюсь, я вдвойне рад твоему приезду: во-первых, мы поболтаем, вспомним наше милое времечко, а во-вторых, я вторично пообедаю... да, бишь! и еще в третьих -- главное-то и позабыл! -- мы отлично выпьем! Эх, жалко, нет у нас шампанского!
-- Ах, Полинька, тебе это вредно, -- сказала жена.
-- Ну, на нынешний день, Анна Ивановна, супружеские советы отложим в сторону. Вредно ли, не вредно ли, а я, значит, был бы свинья, если б не напился ради приятеля! Полюбуйся, брат! -- продолжал он, указывая на стол, -- пусто! пьем, сударь, воду; в общество воздержания поступил! Эй вы, олухи, вина! Да сказать ключнице, чтоб не лукавила, подала бы все, что есть отменнейшего.
-- Скажи, Николай, Маше, -- прибавила от себя Анна Ивановна, -- чтоб она то вино подала, которое для Мишенькиных крестин куплено.
-- Мишенька -- это пятый, -- сказал Лузгин, -- здесь четверо, а то еще пятый... сосуночек, знаешь...
Дети снова прыснули.
-- Вы чего смеетесь, бесенята? Женись, брат, женись! Если хочешь кататься как сыр в масле и если сознаешь в себе способность быть сыром, так это именно масло -- супружеская жизнь! Видишь, каких бесенят выкормили, да на этом еще не остановимся!..
Он взял старшего сынишку за голову и посмотрел на него с особенною нежностью. Анна Ивановна улыбалась.
-- А папка вчера домой пьяный пришел! -- поспешил сообщить мне второй сын, мальчик лет пяти.
-- Да, пьян был папка вчера! -- отвечал Лузгин, -- свинья вчера папка был! От этих бесенят ничего не скроешь! У соседа вчера на именинах был: ну, дома-то ничего не дают, так поневоле с двух рюмок свалился!
-- Ай, папка! сам сказал мамке, что две бутылки выпил! -- вступилась девочка лет трех, сидевшая подле Анны Ивановны, -- папка всегда домой пьян приезжает! -- прибавила она, вздыхая.
-- Женись, брат, женись! Вот этакая ходячая совесть всегда налицо будет! Сделаешь свинство -- даром не пройдет! Только результаты все еще как-то плохи! -- прибавил он, улыбаясь несколько сомнительно, -- не действует! Уж очень, что ли, мы умны сделались, да выросли, только совесть-то как-то скользит по нас. "Свинство!" -- скажешь себе, да и пошел опять щеголять по-прежнему.
-- А главное, что это для тебя, Полинька, нездорово, -- сказала Анна Ивановна.
-- Ну, а ты как?
-- Да что, служу...
-- Слышал, братец, слышал! Только не знал наверное, ты ли: ведь вас, Щедриных, как собак на белом свете развелось... Ну, теперь, по крайней мере, у меня протекция есть, становой в покое оставит, а то такой стал озорник, что просто не приведи бог... Намеднись град у нас выпал, так он, братец ты мой, следствие приехал об этом делать, да еще кабы сам приехал, все бы не так обидно, а то писаришку своего прислал... Нельзя ли, дружище, так как-нибудь устроить, чтобы ему сюда въезду не было?
Принесли ботвиньи; Лузгин попросил себе целую тарелку, и начал сызнова свой обед.
-- Ты, брат, ешь, -- сказал он мне, -- в деревне как поживешь, так желудок такою деятельною бестией делается, просто даже одолевает... Встанешь этак ранним утром, по хозяйству сходишь...
-- Ах, какой папка лгун стал! -- заметила девочка.
-- Вот, дружище, даже поврать не дадут -- вот что значит совесть-то налицо! У меня, душа моя, просто; я живу патриархом; у меня всякий может говорить все, что на язык взбредет... Анна Ивановна! потчуй же гостя, сударыня! Да ты к нам погостить, что ли?
-- Нет, я на следствии в Песчанолесье, должен сегодня же быть там...
-- Ну, стало быть, ночевать у нас все-таки можешь. Я, брат, ведь знаю эти следствия: это именно та самая вещь, об которой сложилась русская пословица: дело не волк, в лес не убежит... Да, друг, вот ты в чины полез, со временем, может, исправником у нас будешь...
Совершенно против моего желания, при этих словах Лузгина на губах моих сложилась предательская улыбка.
-- А что, видно, нам с тобой этого уж мало? -- сказал он, заметив мою улыбку, -- полезай, полезай и выше; это похвально... Я назвал место исправника по неопытности своей, потому что в моих глазах нет уж этого человека выше... Я, брат, деревенщина, отношений ваших не знаю, я Цинциннат...
-- А как мы давно не видались, однако ж? -- прервал я.
-- Да, пятнадцать лет! это в жизни человеческой тоже что-нибудь да значит!
-- Вы, верно, не ожидали встретить Полиньку таким? -- спросила Анна Ивановна.
-- Да, было, было наше время... Бывали и мы молоды, и мы горами двигали!.. Чай, помнишь?
-- Как не помнить! хорошее было время!
-- А впрочем и теперь жару еще пропасть осталась, только некуда его девать... сфера-то у нас узка, разгуляться негде...
Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
вот, брат, нам чего бы нужно!
-- Вот Полинька все жалуется, что для него простора нет, а я ему указываю на семейство, -- прервала Анна Ивановна.
-- Семейство, Анна Ивановна, это святыня; семейство -- это такая вещь, до которой моими нечистыми руками даже и прикасаться не следует... я не об семействе говорю, Анна Ивановна, а об жизни...
-- Да ты это так только, Полинька, говоришь, чтоб свалить с себя, а по-моему, и семейная жизнь -- чем же не жизнь?
-- Размеры не те, сударыня! Размеры нас душат, -- продолжал он, обращаясь ко мне, -- природа у нас широкая, желал бы захватить и вдоль и поперек, а размеры маленькие... Ты, Анна Ивановна, этого понимать не можешь!
-- Признаюсь, и я что-то мало понимаю это.
-- Да ты, братец, чиновник, ты, стало быть, удовлетворился -- это опять другой вопрос; ты себя сузил, брюхо свое подкупил, сердце свое посолил, прокоптил и разменял на кредитные билеты...
-- Однако ты не щадишь-таки выражений!
-- Другое дело вот мы, грешные, -- продолжал он, не слушая меня, -- в нас осталась натура первобытная, неиспорченная, в нас кипит, сударь, этот непочатой ключ жизни, в нас новое слово зреет... Так каким же ты образом этакую-то широкую натуру хочешь втянуть в свои мизерные, зачерствевшие формы? ведь это, брат, значит желать протащить канат в игольное ушко! Ну, само собою разумеется, или ушко прорвет, или канат не влезет!
-- Однако ж надобно же иметь какой-нибудь выход из этого!
-- Ищите вы! Наше дело сторона; мы люди непричастные, мы сидим да глядим только, как вы там стараетесь и как у вас ничего из этого не выходит!
-- И я вот часто говорю Полиньке, чтоб он чем-нибудь занялся... предводитель наш очень нас любит... сколько раз в службу приглашал!
-- Нет, Анна Ивановна, это не по нашей части; ты мне об этом не говори...
-- Однако могут же быть и другие занятия?
-- А какие это, позвольте спросить? в торговлю броситься -- на это есть почтенное купеческое сословие; земледельцем быть -- на это существуют мирные поселяне... Литература! наука! а позволь, брат, узнать, многому ли мы с тобой выучились? Да предположим, что и выучился я чему-нибудь, так ведь тут мало еще одного знания, надобен и талант... А если у меня его нет, так не подлец же я в самом деле, чтобы для меня из-за этого уж и места на свете не было... нет, любезный друг, тут как ни кинь, все клин! тут, брат, червяк такой есть -- вот что!
-- А что, каков у вас предводитель? -- спросил я, чтоб переменить разговор.
-- Да что, любезный друг, человек он хороший: свеч сальных не ест, ездит часто в Крутогорск, там с кем следует нюхается... хороший человек! Только вот тут (он указал на лоб) не взыщите!
-- Ну, полно же, Полинька! Алексей Петрович так любезен к тебе, а ты еще его вечно бранишь!
-- Еще бы он не был любезен! он знает, что у меня горло есть... а удивительное это, право, дело! -- обратился он ко мне, -- посмотришь на него -- ну, человек, да и все тут! И говорить начнет -- тоже целые потоки изливает: и складно, и грамматических ошибок нет! Только, брат, бесцветность какая, пресность, благонамеренность!.. Ну, не могу я! так, знаешь, и подымаются руки, чтоб с лица земли его стереть... А женщинам нравиться может!.. Да я, впрочем, всегда спать ухожу, когда он к нам приезжает.
-- Вот видишь, как он добр! он ведь знает, что ты его не любишь и не хочешь даже занять его, а между тем все-таки навещает нас!
-- А знаешь ли, почему он приезжает к нам, почему он извиняет мне мое пренебрежение? -- сказал Лузгин, обращаясь ко мне, -- ведь он меня за низший организм считает!.. так, дескать, мужик какой-то! Он, изволишь ты видеть, человек просвещенный, с высшими взглядами, а я так себе, невежда, не могу даже понять, что предводители из пшеничной муки пекутся! И надобно видеть, как он принимается иногда поучать меня -- ну, точь-в-точь он патриарх, а я малый ребенок, который, кроме "папы" да "мамы", говорить ничего не умеет... так, знаешь, благосклонно, не сердясь.
-- И ты выслушиваешь?
-- Нет, братец, надоело. Прежде еще забавлялся, даже сам его на нравоученья натравливал, а нынче нет -- очень уж он глуп! Опротивел.
Обед приходил к концу; мы выпили-таки достаточно, и надо сказать правду, что вино было недурное. Начали подавать пирожное.
-- Ну, это не по нашей части! -- сказал Лузгин, -- пойдем ко мне в кабинет, а ты, Анна Ивановна, на сегодняшний день уж оставь нас. Легко может статься, что мы что-нибудь и такое скажем, что для твоих ушей неудобно... хотя, по-моему, неудобных вещей в природе и не существует, -- обратился он ко мне.
Мы пришли в кабинет. Впрочем, я и до сих пор не могу себе объяснить, почему приятель мой, говоря об этой комнате, называл ее кабинетом. Тут не было ни одной из обыкновенных принадлежностей кабинета: ни письменного стола, ни библиотеки, ни чернильницы. По стенам стояли диваны, называемые турецкими, которые, по всей вероятности, более служили для спанья, нежели для беседы, так что и комнату приличнее было назвать опочивальнею, а не кабинетом. В одном углу торчала этажерка с множеством трубок, а в другом шкап, но и в нем хранились не книги, а разбитые бутылки, подсвечники, сапожная щетка, бог весть откуда зашедшая, синяя помадная банка и вообще всякий хлам.
-- Здесь мое царство! -- сказал Лузгин, усаживая меня на диван.
-- Эй, Ларивон! скажи барыне, чтоб прислала нам бутылочки три шипучки... Извини, брат, шампанского нет. Так-то, друг! -- продолжал он, садясь подле меня и трепля меня по коленке, -- вот я и женат... А кто бы это подумал? кто бы мог предвидеть, что Павлушка Лузгин женится и остепенится?.. а порядочные-таки мы были с тобой ёрники в свое время!
-- Однако ж расскажи, пожалуйста, как ты женился?
-- А как, братец, очень простым манером. Вышел я тогда, как у нас говорят, из ученья, поехал, разумеется, к родителям, к папеньке, к маменьке... Отец стал на службу нудить, мать говорит: около меня посиди; ну, и соседи тоже лихие нашлись -- вот я и остался в деревне. Тут же отец помер... а впрочем, славное, брат, житье в деревне! я хоть и смотрю байбаком и к лености с юных лет сердечное влеченье чувствую, однако ведь на все это законные причины есть... Приедешь иной раз в город -- ну, такая, братец, там мерзость и вонь, что даже душу тебе воротит! Кляузы, да сплетни, да франтовство какое-то тупоумное!.. А воротишься в деревню -- какая вдруг божья благодать всю внутренность твою просветлит! выйдешь этак на лужайку или вот хоть в лесок зайдешь -- так это хорошо, и светло, и покойно, что даже и идти-то никуда не хочется! Сядешь под дерево, наверху тебе птичка песенку споет, по траве мурашка ползет, и станешь наблюдать за мурашкой...
-- Однако все это не объясняет мне, каким образом ты женился?
-- А женился я, братец, вот каким образом, -- сказал Лузгин скороговоркой, -- жила у соседей гувернантка, девочка лет семнадцати; ну, житье ее было горькое: хозяйка капризная, хозяин сладострастнейший, дети тупоголовые... Эта гувернантка и есть жена моя... понимаешь?
"Брак по состраданию!" -- подумал я и продолжал громко:
-- Неужели же ты с тех пор, как мы расстались, жил все в деревне?
-- Какое, братец! ездил, ездил и в Петербург, только все это как-то не по мне! У меня натура цельная, грубая, -- ну, а там всё выморозки... ты давно оттуда?
-- Да лет с восемь.
-- И не езди туда никогда. Там и людей-то нет, а так, знаешь, что-то холодное, ослизлое -- возьмешь в руку и бросишь: такая это дрянь! Ходят, братец, слоняются целый день, точно время-то у них на золотники продается, а посмотришь, в результате оказывается, что в таком-то месте часа три прождал, чтоб иметь счастие поганым образом искривить рот в улыбку при виде нужного лица, в другом месте два часа простоял, но и этого счастья не дождался. А провинцияльное простодушие смотрит на эту толкотню, да только рот разевает: вот, мол, деловой-то город! Как же!
Произнося эту филиппику, Лузгин столь искренно негодовал на Петербург, что и мне самому вдруг начало казаться, что в руках у меня какая-то слизь, и перед глазами деревянные люди на пружинах ходят.
-- Помнишь ты Пронина? ведь уж на что, кажется, славный парень был! Ну, так слушай же. Приезжаю я в Петербург; туда-сюда, справляться, отыскивать старых знакомых, -- между прочим, отыскался и Пронин. Прихожу к нему -- он женат, однако переменился мало и принял меня с распростертыми объятиями. Я, разумеется, очень рад, ну и говорю: хоть один человек! Однако, как бы ты думал? говорил он, говорил со мною, да вдруг, так, знаешь, в скобках, и дал мне почувствовать, что ему такой-то действительный статский советник Стрекоза внучатным братом приходится, а княгиня, дескать, Оболдуй-Тараканова друг детства с его женою, а вчера, дескать, у них раут был, баронесса Оксендорф приезжала... И всё, знаешь, этак в скобках: ты, дескать, не думай, любезный друг, что это для меня составляет важность, а так, надо же связи поддерживать! Так вот какими там прихвостнями самые порядочные люди делаются! Ну, с тех пор я и не ездил...
Принесли шипучку.
-- Барыня приказала сказать, -- обратился флегматически Ларивон к Лузгину, -- что вам, сударь, пить не приказано.
-- Ну, поди скажи барыне, что я потому-то именно и буду пить, что не приказано... Вот, братец, возится со мной, точно с малым ребенком...
-- Да если в самом деле тебе вредно?
-- Предрассудок, любезный друг! загляни в русскую историю, и увидишь, что не только бояре, но и боярыни наши вино кушали, и от этого только в теле раздавались, а никакого иного ущерба для здоровья своего не ощущали... Выпьем!
Мы выпили.
-- Помянем, брат, свою молодость! Помянем тех, кто в наши молодые души семя добра заронил!.. Ведь ты не изменил себе, дружище, ты не продал себя, как Пронин, баронессе Оксендорф и действительному статскому советнику Стрекозе, ты остался все тот же сорвиголова, которому море по колено?
Мне показалось, что последние слова он произнес с легким оттенком иронии, и я внезапно ощутил какую-то неловкость во всем существе, как будто бы вдруг сделался виноват перед ним.
-- А впрочем, как бы то ни было, а это достоверно, что Лузгин Павлушка остался тем же, чем был всегда, -- продолжал он, -- то есть душевно... Ну, конечно, в других отношениях маленько, быть может, и поотстали -- что делать! всякому своя линия на свете вышла...
-- Да, хорошо было прежде, -- сказал я, оправляясь от своего смущения.
-- Уж так-то, брат, хорошо, что даже вспомнить грустно! Кипело тогда все это, земля, бывало, под ногами горела! Помнишь ли, например, Катю -- ведь что это за прелесть была! а! как цыганские-то песни пела! или вот эту: "Помнишь ли, мой любезный друг"? Ведь душу выплакать можно! уж на что селедка -- статский советник Кобыльников из Петербурга приезжал, а и тот двадцатипятирублевую кинул -- камни говорят!
-- Да, Катя действительно отличная была девушка.
-- Или помнишь ли Мочалова в "Гамлете"? Умереть -- уснуть... башмаков еще не износила... и этот хохот, захватывающий дыханье в груди зрителя... Вот это жизнь, это сфера безграничная, как самое искусство, разнообразная, как природа!.. А что мы теперь?.. выпьем!..
Он впал в раздумье, уперся руками в колени и минуты две оставался молчаливым.
-- Чего ж теперь-то тебе недостает? -- спросил я, -- ты, кажется, счастлив, у тебя семейство...
-- Да, брат, я счастлив, -- прервал он, вставая с дивана и начиная ходить по комнате, -- ты прав! я счастлив, я любим, жена у меня добрая, хорошенькая... одним словом, не всякому дает судьба то, что она дала мне, а за всем тем, все-таки... я свинья, брат, я гнусен с верхнего волоска головы до ногтей ног... я это знаю! чего мне еще надобно! насущный хлеб у меня есть, водка есть, спать могу вволю... опустился я, брат, куда как опустился!
-- От тебя зависит и опять подняться...
-- Нет, не говори этого! Пробовал я -- и не идет. Кто привык каждый день пшеничные пироги есть, тому ржаной хлеб только оскомину набьет; кто привык на пуховиках отдыхать, тот на голом полу всю ночь проворочается, а не уснет! Я привык уж к праздности, я въелся в нее до такой степени, что даже и думать ни о чем не хочется, точно, знаешь, все мыслящие способности пеленой какою-то подернуты: не могу, да и все тут! И если я с тобой теперь разговорился, так это именно частный случай! А впрочем, что об этом толковать! видно, есть какой-нибудь норов в нас, что все люди как люди, один черт в колпаке... Молодость-то мы свою погано провели! Не столько лекциями, сколько безобразничеством да ухарством занимались -- ведь помянуть, брат, ее нечем, молодость-то! Satis! [Довольно! (лат.)] выпьем!
Мы выпили.
-- Нет, -- начал он снова, -- тут что-нибудь да есть такое, какая-нибудь да вкралась тут опечатка, что нет вот да и нет тебе места на свете! Я, кажется, человек и честный, и не то чтобы совсем глупый -- напротив, добрые люди еще "головой" зовут, -- а ни за что-таки приняться не могу. Начнешь этак иногда сам с собой разговаривать, так даже во рту скверно делается: как ни повернешь делом, а все выходит, что только чужой век заедаешь. И добро бы жару, горячности, любви не было -- есть, братец, есть все это! да так, верно, и суждено этому огню перегореть в груди, не высказавшись ни в чем... Нет, ты скажи: кто виноват-то, кто виноват-то в этом?
-- Я полагаю, что это от того происходит, что ты представляешь себе жизнь слишком в розовом цвете, что ты ждешь от нее непременно чего-то хорошего, а между тем в жизни требуется труд, и она дает не то, чего от нее требуют капризные дети, а только то, что берут у нее с боя люди мужественные и упорные.
-- Это отчасти правда; но ведь вопрос в том, для чего же природа не сделала меня Зеноном, а наградила наклонностями сибарита, для чего она не закалила мое сердце для борьбы с терниями суровой действительности, а, напротив того, размягчила его и сделала способным откликаться только на доброе и прекрасное? Для чего, одним словом, она сделала меня артистом, а не тружеником?.. Природа-то ведь дура, выходит!
Я вспомнил то, что слово "артист" было всегдашним коньком Лузгина, по мнению которого, "артистическая натура" составляла нечто не только всеобъемлющее, но и все извиняющее. Артистической натуре, на основании этого своеобразного кодекса, дозволяется сидеть сложивши руки и заниматься разговором сколько душ угодно, дозволяется решать безапелляционно вопросы первой важности и даже прорицать будущность любого народа. Артистической натуре отпускаются наперед все грехи, все заблуждения, ибо уму простых смертных могут ли быть доступны те тонкие, почти эфирные побуждения, которыми руководствуются натуры генияльные исключительные, и может ли быть, следовательно, применен к ним принцип вменения? Артистическая натура вправе быть невежественною; Ю la rigueur [в сущности (франц.)], она может даже презирать самый процесс мышления, потом что ее назначение не мыслить, а прорицать, что несравненно выше и глубже. Итак, слова Лузгина не только не были для меня новостью, но даже напомнили мне целый ряд шумных и нескончаемых споров, которым украшалась моя молодость; но, несмотря на это, как-то странно подействовало на меня это воспоминание. Привычка ли обращаться преимущественно с явлениям мира действительного, сердечная ли сухость, следствие той же практичности, которая приковывает человека к факту и заставляет считать бреднями все то, что ускользает от простого, чувственного осязания, -- как бы то ни было, но, во всяком случае, мне показалось что я внезапно очутился в какой-то совершенно иной атмосфере, в которой не имел ни малейшего желания оставаться долее. Лузгин, вероятно, заметил это, потому что поспешил переменить разговор.
-- Ну, а ты как? -- сказал он.
-- Да вот служу, как видишь.
-- Служи, брат, служи. Дослужишься до высоких чинов, не забудь и нас, грешных.
-- А разве ты тоже желал бы служить?
-- Нет, брат, куда нам! А все, знаешь, как-то лучше, как есть протекция, как-то легче на свете дышится.
В эту самую минуту послышался шум подъезжающего к дому экипажа.
-- Василий Иваныч приехали, -- доложил Ларивон, и вслед за тем ввалилась в кабинет толстая и неуклюжая фигура какого-то господина, облеченного в серое пальто.
-- Вот кстати! -- сказал Лузгин, бросившись навстречу новопришедшему.
-- Честной компании мира и благоденствия желаем, -- отвечал Василий Иваныч, утирая пот, катившийся по лицу. -- Мир вам, и мы к вам!
-- Рекомендую! мой задушевный друг, Василий Иваныч Кречетов, -- сказал Лузгин, обращаясь ко мне, и затем представил Кречетову и меня.
-- Много наслышан-с, -- заметил Кречетов.
-- Ну что, как дела? что в Крутогорске делается?
-- А как бы вам доложить, благодетель? денег поистряс довольно, а толку не добился.
-- Что ж говорят-то?
-- Да просто никакого толку нет-с. Даже и не говорят ничего... Пошел я этта сначала к столоначальнику, говорю ему, что вот так и так... ну, он было и выслушал меня, да как кончил я: что ж, говорит, дальше-то? Я говорю: "Дальше, говорю, ничего нет, потому что я все рассказал". -- "А! говорит, если ничего больше нет... хорошо, говорит". И ушел с этим, да с тех пор я уж и изымать его никак не мог.
-- Ах ты, простыня без кружева! Да разве денег у тебя с собой не было?
-- Помилуйте, Павел Петрович, как не было-с. Известно, в губернский город без денег нельзя-с. Только очень уж они мудрено говорят, что и не поймешь, чего им желательно.
-- Помоги, брат, ты ему! -- обратился ко мне Лузгин.
-- А в чем дело?
-- Содержал я здесь на речке, на Песчанке, казенную мельницу-с, содержал ее двенадцать лет... Только стараниями своими привел ее, можно сказать, в отличнейшее положение, и капитал тут свой положил-с...
-- Ну, капиталу-то ты немного положил, -- заметил Лузгин.
-- Нет-с, Павел Петрович, положил-с, это именно как пред богом, -- положил-с, -- это верно-с. Только вот приходит теперь двенадцатый год к концу... мне бы, то есть, пользу бы начать получать, ан тут торги новые назначают-с. Так мне бы, ваше высокоблагородие, желательно, чтоб без торгов ее как-нибудь...
-- То есть вам желательно бы было, чтобы в вашу пользу смошенничали?
-- Э, брат, как ты резко выражаешься! -- сказал Лузгин с видимым неудовольствием, -- кто же тут говорит о мошенничествах! а тебя просят, нельзя ли направить дело.
-- Да я-то что ж могу тут сделать?
-- А ты возьми в толк, -- человек-то он какой! золото, а не человек! для такого человека душу прозакладывать можно, а не то что мельницу без торгов отдать!
-- Да я-то все-таки тут ничего не могу.
-- Э, любезный! дрянь ты после этого!
Он отвернулся от меня и обратился к Кречетову:
-- Брось, братец, ты все эти мельницы и переезжай ко мне! Тебе чего нужно? чтоб был для тебя обед да была бы подушка, чтоб под голову положить? ну, это все у меня найдется... Эй, Ларивон, водки!
Прошло несколько минут томительного молчания; всем нам было как-то неловко.
-- А какие, Павел Петрович, нынче ржи уродились! -- сказал Кречетов, -- даже на удивленье-с...
-- Гм... -- отвечал Лузгин и несколько раз прошелся по комнате, а потом машинально остановился перед Кречетовым и посмотрел ему в глаза.
-- Так ты говоришь, что ржи хорошие? -- произнес он.
-- Отменнейшие-с. Поверите ли, даже человека не видать -- такая солома...
-- Может быть, колосом не выдут? -- спросил Лузгин.
-- Нет-с, и колос хорош, и зерно богатое-с.
Принесли водки; Лузгин начал как-то мрачно осушать рюмку за рюмкой; даже Кречетов, который должен был привыкнуть к подобного рода сценам, смотрел на него с тайным страхом.
-- А ты не будешь пить? -- спросил меня Лузгин.
-- Нет, я не пью.
-- Разумеется, разумеется -- куда ж тебе пить? Пьют только свиньи, как мы... выпьем, брат, Василий Иваныч!
Мне приходилось из рук вон неловко. С одной стороны, я чувствовал себя совершенно лишним, с другой стороны, мне как-то неприятно было так разительно обмануться в моих ожиданиях.
-- Мне надо бы в город, -- сказал я.
Лузгин пристально посмотрел на меня.
-- Ты, может быть, думаешь, что я в пьяном виде буйствовать начну? -- сказал он, -- а впрочем... Эй, Ларивон! лошадей господину Щедрину!
Через полчаса мы расстались. Он сначала холодно пожал мне руку на прощанье, но потом не выдержал и обнял меня очень крепко.
Я поехал по пыльной и узкой дороге в город; ржи оказались в самом деле удивительные.
ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНЫЧ БУЕРАКИН
-- Дома? -- спросил я, вылезая из кибитки у подъезда серенького деревянного домика, в котором обитал мой добрый приятель, Владимир Константиныч Буеракин, владелец села Заовражья, живописно раскинувшегося в полуверсте от господской усадьбы.
-- Дома, дома! -- отвечал Буеракин, собственною особой показываясь в окошке.
Но прежде нежели я введу читателя в кабинет моего знакомого, считаю долгом сказать несколько слов о личности Владимира Константиныча.
Буеракин был сын богатых и благородных родителей. Отец его был усердным помещиком, но вместе с тем ни наружностью, ни цивилизацией нисколько не напоминал того ленивого и несколько заспанного типа помещика, который, неизвестно почему, всего чаще является нашему воображению. Нет, старик считал себя одним из передовых людей своего времени, не прочь был повольнодумствовать в часы досуга и вообще был скептик и вольтерьянец. Заметно было, однако ж, что все эти аналитические стремления составляли в жизни старика не серьезное убеждение, а род забавы или отдохновения или, лучше сказать, игру casse-tЙte [головоломку (франц.)], не имевшую ничего общего с его жизнью и никогда не прилагавшуюся на практике. Тем менее могли быть они не только прилагаемы, но даже высказываемы при Володе. В отношении к сыну старик Буеракин являлся в шкуре старого грешника, внезапно понявшего, что грешить и не время и не к лицу. Поэтому, если когда-нибудь и прорывалось у него при Володе что-нибудь сомнительное, то он немедленно спешил поправить свой промах. Вообще Володя был воспитываем в правилах субординации и доверия к папашиному авторитету, а о старых грехах почтенного родителя не было и помину, потому что на старости лет он и сам начал сознавать, что вольтерьянизм и вольнодумство не что иное, как дворянская забава.
Несмотря на это, с Володей приключилось странное происшествие. Слушая лекции в школе, вдали от надзора родительского, он хотя твердо помнил советы и наставления, которыми нашпиговали его юную голову, однако, к величайшему своему изумлению и вполне неприметным для себя образом, пошел по иному пути. Не то чтоб в голове его выработались какие-нибудь положительные результаты, а просто ему нравилась атмосфера, царствовавшая в аудитории, нравились слова, произносимые в нецеремонных товарищеских беседах, и мало ли что еще! Возвращаясь домой поздно вечером, он принимался сводить в одно целое все говоренное и слышанное в течение дня, и хотя не успевал в этом, но чувствовал себя как-то отлично хорошо и легко. В чем именно заключалось это хорошее и легкое, он определить не мог, а просто хорошо, да и все тут.
Всякому из нас памятны, вероятно, эти дни учения, в которые мы не столько учимся, сколько любим поговорить, а еще больше послушать, как говорят другие, о разных взглядах на науку и в особенности о том, что надо во что бы то ни стало идти вперед и развиваться. Под словом "развиваться" разумеются нередко вещи весьма неопределенные, но всегда привлекательные для молодежи. Если немногие, вследствие этих разговоров, получают положительный вкус к науке, зато очень многие делаются дилетантами, и до глубокой старости стоят за просвещение и за comme il faut, которое они впоследствии начинают не шутя смешивать с просвещением.
-- C'est un homme si savant, si instruit! [Это такой ученый, такой образованный человек! (франц.)] -- говорят обыкновенно девицы, слегка при этом вздрагивая и сжимаясь.
-- Et si comme il faut! [И такой порядочный! (франц.)] -- прибавляют дамы.
-- О, c'est une tЙte bien organisИe! -- замечают мужчины, принимая дипломатический вид, -- Гa fera son chemin dans le monde... surtout si des dames s'y prennent...[О, это хорошо организованная голова! он проложит себе дорогу в свете... особенно, если за это возьмутся дамы... (франц.)] И вот пошел дилетант гулять по свету с готовою репутацией!.. Но к делу.
Как дитя благовоспитанное и благородное, Володя, несмотря на увлечение, которому поддался наравне с прочими, не мог, однако ж, не вспоминать родительских наставлений, тем более что родители обращались с ним не столько как с рабом, сколько как с милым ребенком, имеющим чувствительное сердце. Это дало им право на полную благодарность и привязанность с его стороны. Ему было всегда так весело, что родители у него такие миленькие, чистенькие родители, что папа отчасти даже вольтерьянец un tout petit peu [чуть-чуть (франц.)], и вообще сочувствует порывам, а maman всегда так мило одета, toujours causante, affable [всегда разговорчива, мила (франц.)]. Поэтому-то он из всех сил хлопотал и бился о том, чтобы как-нибудь согласить несколько старческий скептицизм папаши, по какому-то странному обстоятельству легко мирившийся и с авторитетом и с субординацией, с автономическими стремлениями школьного кружка, в котором он поневоле вращался.
Тогда произошел в Володе тот разлад, который необходимо происходит в детях благовоспитанных, имеющих несчастие долгое время тереться между детьми сапожников и других господ прискорбно-огорченного свойства.
С одной стороны, не подлежало сомнению, что в душе его укоренились те общие и несколько темные начала, которые заставляют человека с уважением смотреть на всякий подвиг добра и истины, на всякое стремление к общему благу. Но, с другой стороны, рядом с этими убеждениями, воспиталось в нем и другое чувство -- чувство исключительности, заставлявшее его думать, что цивилизация, со всеми ее благами и плодотворными последствиями, может принадлежать в полную собственность лишь ему и другим Буеракиным. Поэтому, если он и ладил с школьною молодежью, которая, по обыкновению, густою толпой окружала благовидного и богатого барича, то тайные, живые его симпатии стремились совсем не к ней, а к господам Буеракиным, которые близки были его сердцу и по воспитанию, и по тем стремлениям к общебуеракинскому обновлению, которое они считали необходимым для поправления буеракинских обстоятельств. В сущности, Владимир Константиныч был весьма близко к своему папа, по пословице: "От свиньи не родятся бобренки, а всё поросенки". В нем обретался тот же дилетантизм, то же бессилие к чему-нибудь определенному и положительному; только формы были несколько мягче и общедоступнее.
В то время, как я познакомился с ним, ему было уже лет тридцать, и он обладал приличною помещичьему званию тучностью. Папа его давно лежал уж в могиле; maman тоже вскоре последовала за своим супругом. Оба они покоились рядышком под великолепными памятниками на кладбище села Заовражья. Нельзя сказать, чтобы Владимир Константиныч, приняв в свои руки кормило правления, не старался сделаться полезным для своих крестьян, но роль благодетельного и просвещенного помещика не далась ему. Сам ли он был с изъянцем, или крестьяне у него оказалися оболтусами -- неизвестно; но он должен был оставить административные поползновения свои. В результате оказалось, что, живучи в деревне, он достиг только того, что обрюзг и страшно обленился, не выходя по целым дням из халата.
-- Насилу-то вас занесло в нашу сторону, -- сказал он, протягивая мне обе руки, -- а я было не на шутку начинал думать, что становые ведут себя примерно.
-- Какую же связь имеет мой приезд к вам с поведением становых?
-- Ну, не хитрите, не скрывайтесь же, милейший мой Немврод, велий ловец становых пред губернатором! разве мы не знаем, зачем вы в наши страны жалуете!
И он начал похаживать по комнате, посматривая на меня и улыбаясь несколько иронически.
-- Ну, слава богу! кажется, все обстоит по-старому! -- продолжал он, весело потирая руки, -- Немврод в движении, -- стало быть, хищные звери не оставили проказ своих... Ну, а признайтесь, вы, верно, на ловлю собрались?
Я сознался.
-- То-то же! я на это имею уж взгляд... А знаете ли, ведь вы отличнейший человек... Это я вам говорю без комплиментов...
Я поблагодарил.
-- Только жаль, что донкихотствуете, -- прибавил он.
-- Это почему?
-- Да потому, что вот задумали всех блох переловить ... Сами согласитесь, что ведь на это порошок такой нужен и что с одними пальцами, как бы они ни были прытки, тут не уедешь далеко... А ну, покажите-ка мне ваш порошок!
-- Я делаю, что могу, -- возразил я.
-- То-то что могу! вот вы одну какую-нибудь крохотную блошинку изловите, да и кричите что мочи есть, что вот, дескать, одной блошицей меньше, а того и не видите, что на то самое место сотни других блох из нечистоты выскакивают... такое уж, батюшка, удобное для этой твари место...
-- Согласитесь, однако ж, что если бы все смотрели на это так же равнодушно, как вы смотрите; если б никто не начинал, а все ограничивались только разговорцем, то куда ж бы деваться от блох?
-- Так вы серьезно верите в злодеев, верите в злоупотребления? -- спросил он, останавливаясь передо мной.
-- Как нельзя более серьезно.
-- И думаете, что все эти действия, которые вы называете злодействами и злоупотреблениями, что вся эта галиматья, одним словом, проникнута какою-нибудь идеей, что к ней можно применить принцип "вменения"?
-- Да.
-- Да это потеха, и вы истинно наивный молодой человек! Я очень желал бы, чтоб вы покороче сошлись с нашим милейшим Иваном Демьянычем, чтобы вы лично удостоверились, как он кротко пьет водку, как благодушно с вами беседует, как он не знает, чем угостить, где усадить вас... А между тем не безызвестно и вам, господин губернский чиновник, что тот же самый Иван Демьяиыч с удовольствием и совершенно спокойною совестью оберет дотла добродушного субъекта, который попадется ему в вершу... И вы называете преступником этого прекраснейшего отца семейства, этого добродетельного гражданина?
-- А вольно же ему ставить верши!
-- А ставит он их потому, что так инстинкт ему велит: ставит потому, что он животное плотоядное... Слыхали вы когда-нибудь о танце, называемом "комаринскою"?
-- Слыхал.
-- Это такой, сударь, танец, в котором ни связи, ни системы, ни смысла ни под каким видом добиться нельзя. Разве можете дать себе отчет, почему он танцуется так, а не иначе? Точно таким же образом течет и жизнь Ивана Демьяныча: он не умствует, не заносится, танцует себе комаринскую, покуда ноги носят. И каким образом, спрашиваю я вас, прекратите вы этот танец, если он в нравах, если в воздухе есть что-то располагающе к нему? Ну, положим, вы его остановили, вы размяли ему надлежащим образом руки и ноги, научили становиться в пятую позицию, делать chasse en avant, pas de cosaque и проч. Но что же из этого? Выпустили вы его из-под вашей ферулы, смРтрите, -- а он опять отплясывает комаринскую... Так-то, мой милейший!
Разговор этот, однако ж, тяготил меня.
-- Ну, а вы что поделываете? -- спросил я после не которого молчания, чтобы переменить тему.
-- Да вот как видите. Ленюсь и отчасти мечтаю о том, как вы, бедняги, люди молодые и задорные, желаете луну с неба селитряною кислотой свести, душ; станового наизнанку выворотить, как вы черненькое хотите сделать сереньким, и как это черненькое изо всех сил протестует против ваших администраторских поползновений...
-- Это занятие очень милое, -- сказал я, -- действительно, оно легче, если я буду в халатике похаживать да показывать добрым людям, какие у меня зубы белые, нежели дело делать.
-- А что вы думаете? и в самом деле, показывать зубы весело, особливо если они белые и вострые... Все смотрят на тебя и думают: о, этому господину не попадайся на зубы: как раз раскусит! Это я на себе испытал! знаете ли вы, что я здесь слыву за отменно злого и, следовательно, за отменно умного человека?
-- Знаю... что ж, это и справедливо... отчасти...
-- Вы мне льстите. Я вам скажу, напротив, что я отменно добрый, и хотя действительно не совсем глупый, но совершенно негодный человек... знаете ли вы, чем я занимаюсь?..
-- Нет, но догадываюсь...
-- Например?
-- А вот похаживаете из угла в угол и думаете, что кругом вас все так скверно, так растленно, так неопрятно, что никакая панацея этого ни изменить, ни исправить не может...
-- Угадали. Но от вас ускользнули некоторые подробности, которые я и постараюсь объяснить вам. Первое дело, которым я занимаюсь, -- это мое искреннее желание быть благодетельным помещиком. Это дело не трудное, и я достигаю достаточно удовлетворительных результатов, коль скоро как можно менее вмешиваюсь в дела управления. Вы, однако ж, не думайте, чтоб я поступал таким образом из беспечности или преступной лености. Нет, у меня такое глубокое убеждение в совершенной ненужности вмешательства, что и управляющий мой существует только для вида, для очистки совести, чтоб не сказали, что овцы без пастыря ходят... Поняли вы меня?
-- Ну, тут еще не много работы...
-- Больше, нежели вы предполагаете... Однако ж в сторону это. Второе мое занятие -- это лень. Вы не можете себе вообразить, вы, человек деятельный, вы, наш Немврод, сколько страшной, разнообразной деятельности представляет лень. Вам кажется вот, что я, в халате, хожу бесполезно по комнате, иногда насвистываю итальянскую арию, иногда поплевываю, и что все это, взятое в совокупности, составляет то состояние души, которое вы, профаны, называете праздностью.
-- Почти что так, -- заметил я мимоходом.
-- Вы меня извините, но вы глубоко заблуждаетесь. Все это происходит от вашей близорукости, от того, что вы, господа Немвроды, не умеете читать за строками, что вас поражает только то, что хлещет вам прямо в глаза. Вы не в состоянии понять, что никогда деятельность души не бывает так напряженно сильна, как в то время, когда я сплевываю или мурлыкаю под нос арию: Oh, per che nonposso odiar ti! [О, почему не могу я тебя ненавидеть! (итал.)] Вы не можете постигнуть, какая страшная работа происходит тогда во мне, какие смелые утопии, какие удивительнейшие панацеи рождаются в моем возбужденном воображении. Вы люди практические и, следовательно, ограниченные; вам бы вот только блоху поймать да и сжечь ее на свечке; вы даже не хотите посмотреть, как она дрыгает ножками, палимая огнем, потому что вдали мелькает перед вами другая блоха, которую вам также настоит изловить... Ну, а мы, люди мысли, люди высших взглядов и общих соображений, мы смотрим на это дело иначе: нас занимают мировые задачи... так-то-с!
Последние слова он произнес не без иронии.
-- И вы не можете себе представить, -- продолжал он, -- какая втягивающая, почти одурманивающая сила заключается в этой лени! Ходишь этак по комнате, ходишь целый день, а мысли самые милые, самые разнообразные так и роятся, так и роятся в голове... Иная даже как-то особенно пристанет к тебе, словно вот пчела жужжит, да так сладко, так успокоительно. Ну, и доволен, да еще так доволен, что на приезд постороннего -- я не говорю этого об вас -- смотришь как на что-то вроде наказания... Знаете, я все добиваюсь, нельзя ли как-нибудь до такого состояния дойти, чтоб внутри меня все вконец успокоилось, чтоб и кровь не волновалась, и душа чтоб переваривала только те милые образы, те кроткие ощущения, которые она самодеятельно выработала... вы понимаете? -- чтоб этого внешнего мира с его прискорбием не существовало вовсе, чтоб я сам был автором всех своих радостей, всей своей внутренней жизни... Как вы думаете, достигну я этого?
-- Но позвольте мне заметить, -- сказал я, -- блаженством, которого вы так добиваетесь, обладают очень многие...
-- Сумасшедшие, хотите вы сказать?.. договаривайте, не краснейте! Но кто же вам сказал, что я не хотел бы не то чтоб с ума сойти -- это неприятно, -- а быть сумасшедшим? По моему искреннему убеждению, смерть и сумасшествие две самые завидные вещи на свете, и когда-нибудь я попотчую себя этим лакомством. Смерть я не могу себе представить иначе, как в виде состояния сладкой мечтательности, состояния грез и несокрушимого довольства самим собой, продолжающегося целую вечность... Я понимаю иногда Вертера.
Приятель мой начал ходить большими шагами по комнате, и лицо его действительно приняло какое-то болезненно-довольное выражение.
-- Знаете ли вы, какой предмет занимал меня перед вашим приездом? -- спросил он, останавливаясь передо мной, -- бьюсь об заклад, что ни за что в свете не угадаете.
-- Очень может быть.
-- Да; а между тем вещь очень простая. Вот теперь у нас конец февраля и начинается оттепель. Я хожу по комнате, посматриваю в окошко, и вдруг мысль озаряет мою голову. Что такое оттепель? спрашиваю я себя. Задача не хитрая, а занимает меня целые сутки.
Оттепель -- говорю я себе -- возрождение природы; оттепель же -- обнажение всех навозных куч.
Оттепель -- с гор ручьи бегут; бегут, по выражению народному, чисто, непорочно; оттепель же -- стекаются с задних дворов все нечистоты, все гнусности, которые скрывала зима.
Оттепель -- воздух наполнен благоуханьем весны, ароматами всех злаков земных, весело восстающих к жизни от полугодового оцепенения; оттепель же -- все миазмы, все гнилые испаренья, поднимающиеся от помойных ям... И все это и миазмы, и благоухания -- все это стремится вверх к одному и тому же небу!
Оттепель -- полное томительной неги пение соловья, задумчивый свист иволги, пробуждение всех звуков, которыми наполняется божий мир, как будто ищет и рвется природа вся в звуках излиться после долгого насильственного молчания; оттепель же -- карканье вороны, наравне с соловьем радующейся теплу.
Оттепель -- пробуждение в самом человеке всех сладких тревог его сердца, всех лучших его побуждений; оттепель же -- возбуждение всех животных его инстинктов.
Ведь это, батюшка, почти стихи выходят!
Вы скажете, что меня занимают пустые вопросы, но объясните мне на милость: вы-то, вы-то решением каких мировых задач занимаетесь? Я, по крайней мере, изощряю свои диалектические способности, у меня, следовательно, есть самостоятельная деятельность; ну, а вы что? Строчите бумаги, ездите по губернии, ловите блох, но как вы там ни разглагольствуйте о разных высших взглядах, а все это делается у вас без всякого участия мысли, машинально, совершенно независимо от ваших убеждений. Для вас это ли делать, в карты ли играть -- все одно! Ну, не во сто ли, не в тысячу ли крат моя участь завиднее вашей, а моя деятельность полезнее вашей? Я, по крайней мере, хожу, гляжу в окно, умиляюсь, размышляю. В недавнее время вот точно таким же образом я разрешал вопрос о том, что было бы, если б вместо болота, которое тянется, как вам известно, сзади моей усадьбы, вдруг очутился зеленый луг, покрытый душистыми и сочными травами?.. И вышли соображения довольно оригинальные и даже, можно сказать, философические...
-- Любопытно было бы знать их.
-- Теперь не время, а впоследствии я не отказываюсь объяснить их вам... В настоящее время я хотел вам доказать только ту истину, что, несмотря на мою кажущуюся леность и беспечность, я работаю отнюдь не менее, нежели вы, люди практические, и если результаты моих невинных работ незаметны, то и ваши усилия не приносят плодов более обильных. Хотите водки?
-- Пожалуй.
-- Эй, Павлуша! Отчего ты водку не подаешь? Разве не видишь, чиновник наехал?
Павлуша засмеялся.
-- Чему ты смеешься?
-- Да разве они чиновники?
-- Ты неразвит еще, Павлуша! Ты думаешь, что чиновник непременно должен быть дикобраз... Вы его извините!
Павлуша вышел.
-- А странный народ эти чиновники! -- продолжал он, снова обращаясь ко мне, -- намедни приехал ко мне наш исправник. Стал я с ним говорить... вот как с вами. Слушал он меня, слушал, и все не отвечает ни слова. Подали водки; он выпил; закусил и опять выпил, и вдруг его озарило наитие: "Какой, говорит, вы умный человек, Владимир Константиныч! отчего бы вам не служить?" Вот и вы, как выпьете, может быть, тот же вопрос сделаете.
-- Ну, а кроме шуток, отчего вы не служите?
-- А позвольте вас спросить, почему вы так смело полагаете, что я не служу?
-- Да потому, что не служите -- вот и всё.
-- А в таком случае позвольте вам доказать совершенно противное. Во-первых, я каждый месяц посылаю становому четыре воза сена, две четверти овса и куль муки, -- следовательно, служу; во-вторых, я ежегодно жертвую десять целковых на покупку учебных пособий для уездного училища, -- следовательно, служу; в-третьих, я ежегодно кормлю крутогорское начальство, когда оно благоволит заезжать ко мне по случаю ревизии, -- следовательно, служу; в-четвертых, я никогда не позволяю себе сказать господину исправнику, когда он взял взятку, что он взятки этой не взял, -- следовательно, служу; в-пятых... но как могу я объяснить в подробности все манеры, которыми я служу?
-- Однако это легкая манера служить...
-- Вы думаете? Это все зависит от взгляда. Я сам убежден, что легкая, но не для всякого. У вас в Крутогорске есть господин -- он тоже чиновник, -- которого физиономия напоминает мне добродушно-насмешливое лицо Крылова. Вся служба этого чиновника или, по крайней мере, полезнейшая часть ее состоит, кажется, в том, что когда мимо его проходит кто-нибудь из ваших губернских аристократов, во всем величии, свойственном индейскому петуху, он вполголоса произносит ему вслед только два слова: "Хоть куда!" -- но этими двумя словами он приносит обществу неоцененную услугу. Во-первых, эти слова очищают воздух от тлетворных испарений, которые оставляет за собой губернский аристократ, а во-вторых, они огорошивают самого аристократа, который поспешно подбирает распущенный хвост, и из нахального индюка становится хоть на время скромною индейкой... Одним словом, это именно полезнейший сорт чиновника, потому что действительно и положительно смягчает нравы и искореняет дикость!.. Итак, за здоровье крутогорского Крылова и всех чиновников, подобно ему служащих обществу бескорыстно и нелицеприятно! -- продолжал Буеракин, выпивая рюмку водки.
Я тоже выпил.
-- Эту фанаберию, то есть жажду практической деятельности, -- продолжал он, -- долго носил и я в своей голове -- и бросил. Такой уж у меня взгляд на вещи, что я не желаю ничем огорчаться, и алкаю проводить дни свои в спокойствии. Другой на моем месте помчался бы по первопутке в Петербург, а я сижу в Заовражье, и совсем не потому, что желаю подражать Юлию Цезарю; другой читал бы книжки, а я не читаю; другой занялся бы хозяйством, а я не занимаюсь; другой бы женился, а я не женюсь... А ведь я не совсем-таки еще стар, чтобы уж тово...
-- Так напустили на себя дурь, -- заметил я, -- выдумали, что вам надоело, да и все тут.
-- Может быть, может быть, господин Немврод! Это вы справедливо заметили, что я выдумал. Но если выдумка моя так удачна, что точка в точку приходится по мне, то полагаю, что не лишен же я на нее права авторской собственности... А! Пашенька-с! и вы тоже вышли подышать весенним воздухом! -- прибавил он, отворяя форточку, -- знать, забило сердечко тревогу!
Я тоже подошел к окну. На крыльце флигеля сидела девочка лет пятнадцати, но такая хорошенькая, такая умница, что мне стало до крайности завидно, что какой-нибудь дряблый Буеракин может каждый день любоваться ее веселым, умным и свежим личиком, а я не могу.
-- Ваша? -- спросил я.
-- Дочь моего кучера. Желаете познакомиться? По этому случаю я вам предварительно анекдот расскажу. Был у меня товарищ, по фамилии господин Крутицын, добряк ужаснейший, но простоват, до непристойности безобразен и при этом влюбчив как жаба -- все бы ему этак около юпочек. Вот и сыграл же с ним штуку другой товарищ, Прозоров, тоже малый простодушнейший, но побойчее. Уверили Крутицына, что к Прозорову приехала сестра, богатая наследница, которая до того влюблена в него, Крутицына, что его только и спит и видит. Устроили нарочно обед, чтоб доставить случай любовникам видеться, и одели крепостную девку Прозорова барышней. Нужно было видеть, как рассыпался перед ней Крутицын! Эта комедия продолжалась около часа, и когда уж всем надоело забавляться, посреди самых красноречивых объяснений Крутицына вдруг раздался голос хозяина: "Ну, будет, Акулька! марш в девичью!" Заверяю вас, что на наших глазах Крутицын поглупел на пол-аршина...
-- Да, анекдот не дурен.
-- А что вы думаете? Вы не обижайтесь, а, право, и с вами можно бы такую штуку сыграть, хоть вы и не Крутицын... Пашенька! бегите-ка сюда поскорей: я вам жар-птицу покажу!
Последовало несколько секунд молчания.
-- А знаете ли, отличная вещь быть помещиком! -- обратился он ко мне, -- как подумаешь этак, что у тебя всего вдоволь, всякого, что называется, злаку, так даже расслабнешь весь -- так оно приятно!
И он действительно опустился в вольтеровское кресло, будто ослаб.
-- А впрочем, и то сказать, какие мы помещики! Вот у вас, в Крутогорске, я видел господина -- это помещик! Коли хотите, крепостных у него нет, а станет он этак у окошечка -- ан у него в садике арестантики работают: грядки полют, беседки строят, дорожки чистят, цветочки сажают... Посмотрит он на эту идиллию и пригорюнится. Подойдет к нему супруга, подползут ребятишки, мал мала меньше... "Как хорош и светел божий мир!" -- воскликнет Михайло Степаныч. "И как отделан будет наш садик, душечка!" -- отвечает супруга его. "А у папки денески всё валёванные!" -- кричит старший сынишка, род enfant terrible [сорванца (франц.)], которого какой-то желчный господин научил повторять эту фразу. "Цыц, постреленок!" -- кричит Михайло Степаныч, внезапно пробужденный от идиллического сновидения... А вот он и не помещик!
В это время Пашенька вбежала в комнату, и, как видно, застенчивость не была одним из ее привычных качеств, потому что она, не ожидая приглашения, уселась в кресло с тою же непринужденностью, с какою сидела на крыльце.
-- Пашенька! -- сказал Буеракин, -- известно ли вам, отчего у нас на дворе сегодня птички поют, а с крыш капель льется? Неизвестно? так знайте же: оттого так тепло в мире, оттого птички радуются, что вот господин Щедрин приехал, тот самый господин Щедрин, который сердца становых смягчает и вселяет в непременном заседателе внезапное отвращение к напитку!
-- Какой вы все вздор городите! -- сказала Пашенька, -- какие там еще становые!
-- Но нужно же вам знать, Пашенька, кто такой господин Щедрин... посудите сами!
-- Известно, чиновники...
-- Конечно, чиновники; но разные бывают, Пашенька, чиновники! Вот, например Иван Демьяныч [См. очерк "Порфирий Петрович". (Прим. Салтыкова-Щедpина.)] чиновники и господин Щедрин чиновники. Только Иван Демьяныч в передней водку пьют и закусывают, а господин Щедрин исполняет эту потребность в собственном моем кабинете. Поняли вы, Пашенька?
-- А зачем же вы их пускаете, если они чиновники?
-- Нельзя, Пашенька! Они вот в Крутогорск поедут, его превосходительству насплетничают, что, мол, вот, ваше превосходительство, живет на свете господин Буеракин -- опаснейший человек-с, так не худо бы господина Буеракина сцапцарапать-с. "Что ж, -- скажет его превосходительство, -- если он подлинно опасный, так спапцарапать его таперича можно".
-- Да и то бы пора: всё глупости говорите.
-- Ну, а вы, моя умница, что сегодня делали?
-- А какие мои дела? Встала, на кухню сбегала, с теткой Анисьей побранилась; потом на конюшню пошла -- нельзя: Ваньку-косача наказывают...
-- Вы, кажется, заврались, душенька?
-- А что мне врать? известно, наказывают...
-- И у вас, кажется, свои enfant terrible есть, как у Михайлы Степаныча! -- сказал я.
Буеракин сконфузился.
-- Потом домой пошла, -- продолжала Пашенька, -- на крылечке посидела, да и к вам пришла... да ты что меня все расспрашиваешь?.. ты лучше песенку спой. Спой, голубчик, песенку!
-- Так вот вы каковы, Владимир Константиныч! -- сказал я, -- и песенки поете?
Буеракин покраснел пуще прежнего.
-- Да ты, никак, застыдился, барин? -- продолжала приставать Пашенька.
Но Буеракин молчал.
-- А еще говоришь, что любишь! Нет, вот наша Арапка, так та точно меня любит!.. Арапка! Арапка! -- кликнула она, высовываясь в форточку.
Арапка завиляла хвостом.
-- Любишь меня, Арапка? любишь, черномазая? вот ужо хлебца Арапке дам...
-- А хотите, я вам спою песенку? -- спросил я.
-- А пойте, пожалуй! мне что за надобность!
-- Как что за надобность! Ведь вы сейчас просили Владимира Константиныча спеть песню...
-- Да то барин! он вот никому песен не поет, а мне поет... Барин песни поет!
Сцена эта, видимо, тяготила Буеракина.
-- Ну, полно же, полно, дурочка! -- сказал он, стараясь улыбнуться, а в самом деле изображая своими устами гримасу довольно кислого свойства.
Павлуша, вошедший с докладом о приходе старосты, выручил его из затруднения.
-- А! здравствуй, брат! здравствуй, Абрам Семеныч! давненько не изволили к нам жаловать! ну, как дела?
Пашенька скрылась.
-- Да что, батюшка, совсем нам тутотки жить стало невозможно.
-- А что?
-- Да больно уж немец осерчал: сечет всех поголовно, да и вся недолга! "На то, говорит, и сиденье у тебя, чтоб его стегать"... Помилосердуйте!
-- Странно!
-- Я ему говорил тоже, что, мол, нас и барин николи из своих ручек не жаловал, а ты, мол, колбаса, поди како дело завел, над христианским телом наругаться! Так он пуще еще осерчал, меня за бороду при всем мире оттаскал: "Я, говорит, всех вас издеру! мне, говорит, не указ твой барин! барин-то, мол, у вас словно робенок малый, не смыслит!"
-- А он не пьян, Абрам Семеныч?
-- Коли бы пьян! Только тем и пьян, стало быть, что с ручищам своим совладать не может... совсем уж мужикам неспособно стало!.. пожалуй, и ушибет кого ненароком: с исправником-то и не разделаешься в ту пору
-- Ну, хорошо, Абрам Семеныч! это я тебе благодарен, что ты ко мне откровенно... Ступай, пошли за Федором Карлычем, а сам обожди в передней.
-- Как же вы говорите, что у вас управляющий только для вида? -- сказал я, когда Абрам Семеныч вышел из комнаты.
-- Да я с тем и нанимал его... да что прикажете делать? самолюбив, каналья. Беспрестанные эти... превышения власти -- так, кажется, у вас называются?
-- Да.
-- То выпорет, что называется, вплотную, сколько влезет, то зубы расшибет... Того и гляди полиция пронюхает -- ну, и опять расход... ах ты господи!
Говоря это, Владимир Константиныч действительно озирался, как будто бы полиция гналась по пятам его и с минуты на минуту готова была настичь.
-- Уж я ему несколько раз повторял, -- продолжал он встревоженным голосом, -- чтоб был осторожнее, в особенности насчет мордасов, а он все свое: "Во-первых, говорит, у мужичка в сиденье истома и геморрой, если не тово... а во-вторых, говорит, я уж двадцать лет именьями управляю, и без этого дело не обходилось, и вам учить меня нечего!.." Право, так ведь и говорит в глаза! Такая грубая шельма!
-- Отчего ж вы его не смените?
-- Несколько раз предлагал, да нейдет! То у него, как нарочно, Амальхен напоследях ходит, то из деток кто-нибудь... ну, и оставишь из жалости... Нет, это верно уж предопределенье такое!
Буеракин махнул рукой.
-- А ведь мизерный-то какой! Я раз, знаете, собственными глазами из окна видел, как он там распоряжаться изволил... Привели к нему мужика чуть не в сажень ростом; так он достать-то его не может, так даже подпрыгивает от злости... "Нагибайся!" -- кричит. Насилу его уняли!..
-- А староста у вас каков?
-- Он у меня по выбору...
-- Зачем же вы ему не поручите управления, если он человек хороший?
-- Да всё, знаете, говорят, свой глаз нужен... вот и навязали мне этого немца.
-- Федор Карлыч пришли! -- доложил Павлуша.
Вошел маленький человек, очень плешивый и, по-видимому, очень наивный. По-русски выражался он довольно грамотно, но никак не мог овладеть буквою л и сверх того наперсника называл соперником, и наоборот.
-- А! Федор Карлыч! -- сказал Буеракин, -- ну, каково, mein Herr, поживаете, каково прижимаете? Как Амалия Ивановна в ихнем здоровье?
-- Gut, sehr gut [Хорошо, очень хорошо (нем.)].
-- Это хорошо, что гут, а вот было бы скверно, кабы нихт гут... Не правда ли, Федор Карлыч?
Буеракин видимо затруднялся приступить к делу. Я взялся было за фуражку, чтоб оставить их вдвоем, но Владимир Константиныч бросился удерживать меня.
-- Нет, вы пожалуйста! -- шептал он мне торопливо, -- вы не оставляйте меня в эту критическую минуту.
Я остался.
-- Ну, так как же, Федор Карлыч? кофеек попиваем? а?
-- На все свое время, -- отвечал Федор Карлыч.
-- Да, да; это правда... Немцы, знаете, народ пунктуальный; во всем им порядок нужен...
-- Вам угодно было меня видеть? -- перебил Федор Карлыч сухо.
-- Да; знаете, Абрам Семенов ваш соперник...
Абрам Семенов, наскучив дожидаться в передней, вошел в это время в комнату.
-- Я уж распорядился, -- сказал Федор Карлыч.
-- То есть как же вы распорядились?
-- Он весьма требует розга, -- отвечал Федор Карлыч хладнокровно, -- розга и получит...
-- Нет, уж это, видно, отдумать надобно, -- заметил Абрам Семеныч, злобно мотая головой, но как-то сомнительно улыбаясь.
-- Розга и получит! -- повторил Федор Карлыч твердым и ясным голосом.
-- Однако за что же? -- проговорил Буеракин, видимо смущенный решительным тоном немца.
-- Он меня "колбаса" сказал! -- угрюмо сказал Федор Карлыч.
-- Это уж больно что-то тово, -- рассуждал Абрам Семеныч, -- размашист стал оченно... Это, брат колбаса, больно уж вольготно тебе будет, коли начальников стегать станешь.
-- Он получит розга, -- повторил Федор Карлыч.
-- Однако ж, согласитесь сами, мой почтеннейший! -- сказал Буеракин, -- разве приятно было бы, например, вам, если б, по чьему-нибудь крайнему убеждению, розга эта следовала вашей особе?
-- О, если я заслужил -- очень приятно!
-- Que voulez-vous que je fasse! -- обратился ко мне Буеракин, -- се nest pas un homme, c'est une conviction, voyez-vous! [Что прикажете делать! это не человек, это убеждение, как вы видите! (франц.)]
Федор Карлыч стоял совершенно бесстрастно, не шевеля ни одним мускулом.
-- Нет, уж это оченно что-то размашисто будет! -- повторил Абрам Семеныч, но как-то слабым голосом. Очевидно, злое сомнение уже начинало закрадываться в его душу.
-- Он заслужил, и получит! -- сказал Федор Карлыч.
-- А если я попрошу вас оставить меня!.. -- высказался вдруг Буеракин.
-- О, я оставлю, но он все-таки розга получит: заслужил, и получит!
-- Но я вас прошу оставить меня сейчас же... вы понимаете? то есть не комнату эту оставить, а мой дом, мое имение... слышите?
Немец взглянул с изумлением.
-- О, это быть не может! -- проговорил он через секунду совершенно равнодушно, -- Абрам! марш!
Абрам Семеныч нехотя повиновался; Федор Карлыч медленно последовал за ним. Буеракин долгое время пребывал в изумлении с растопыренными руками.
-- Ну, что же тут прикажете делать? -- сказал он, обращаясь ко мне.
ГОРЕХВАСТОВ
Горехвастов преспокойно развалился на диване, между тем как Рогожкин и я скромно сидели против него на стульях.
Горехвастову лет около сорока; он, что называется, видный мужчина, вроде тех, которых зрелище поселяет истому в организме сорокалетних капиталисток и убогих вдов-ростовщиц. Росту в нем без малого девять вершков, лицо белое, одутловатое, украшенное приличным носом и огромными, тщательно закрученными усами; сложенье такое, о котором выражаются: "на одну ладСнку посадит, другою прикроет -- в результате мокренько будет"; голос густой и зычный; глаза, как водится, свиные. Вообще заметно, что здесь материя преобладает над духом, и что страсти и неумеренные увеселения плоти, говоря языком старинных русских романов, "оставили на нем свои глубокие бразды". Он заметно любит щеголять; на нем надето что-то круглое: сюртук не сюртук, пальто не пальто, фрак не фрак, а что-то среднее, то, что в провинции называют "обеденным фраком"; сапоги лаковые, перчатки палевые, жилет кашемировый, пестроты ослепительной; на рубашке столько складок, что ум теряется. Но несмотря на все это, несмотря на множество колец, украшающих его пухлые руки, и на нем самом, и на его одежде лежит какая-то печать поношенности, как будто и сам он, и все, что на нем, полиняло и выцвело. Когда я смотрю на него, мне, не знаю почему, всегда кажется, что вот передо мной человек, который ночи три сряду не спал и не снимал с себя ни "обеденного фрака", ни рубашки. Складки на рубашке смяты и на сгибах покрыты какою-то подозрительною тенью, платье на швах поистерлось, самые щеки одрябли и как-то неприятно хрящевато-белы. Словом, это один из тех субъектов, которые называются "жуирами": живали и в роскоши, живали и в нищете, заставляли других из окна прыгать, но и сами из оного прыгивали.
В нравственном отношении он обладает многими неоцененными качествами: отлично передергивает карты, умеет подписываться под всякую руку, готов бражничать с утра до вечера, и исполняет это без всякого ущерба для головы, лихо поет и пляшет по-цыгански, и со всем этим соединяет самую добродушную и веселую откровенность. Одно только в нем не совсем приятно: он любит иногда приходить в какой-то своеобразный, деланный восторг, и в этом состоянии лжет и хвастает немилосердно.
В Крутогорск попал он совершенно случайно, и хотя это совершилось недобровольно, но он не показывал ни малейших признаков уныния или отчаяния.
-- Произошло это дело вот каким образом, -- рассказывал он мне однажды, в минуту откровенности, когда я попросил его объяснить, по каким коммерческим или служебным делам он осчастливил наш город, -- затеяли мы этак штуку, знаете, en grand [в крупном размере (франц.)]. Собралась нас целая компания, всё народ голодный, и притом жаждущий деятельности, жизненных бурь... Собрались мы и начали обдумывать строго свое положение... А надо вам сказать, что до этого времени мы большую игру вели, а потом как-то вдруг так случилось, что никто с нами играть не стал. "Нет, черт возьми! -- сказал (как сейчас это помню) Петр Бурков, лихой малый и закадычный мой друг, -- в таком положении нам, воля ваша, оставаться нельзя; мы, господа, люди образованные, имеем вкус развитой; мы, черт возьми, любим вино и женщин!" В это время -- может быть слыхали вы? -- имел в Петербурге резиденцию некоторый Размахнин, негоциант тупоумнейший, но миллионер. Сын у него был -- ну, этого никогда в трезвом виде никто не видывал; даже во сне, если можно так выразиться, пьян был, потому что спал все урывками, и не успеет, бывало, еще проспаться, как и опять, смотришь, пьян. Пробовали мы его в свою компанию залучить, однако пользы не оказалось никакой; первое дело, что отец отпускал ему самую малую сумму, всего тысяч десять на серебро в год, и, следовательно, денег у него в наличности не бывало; второе дело, что хотя он заемные письма и с охотою давал, но уплаты по ним приходилось ждать до смерти отца, а это в нашем быту не расчет; третье дело, чести в нем совсем не было никакой: другой, если ткнуть ему кулаком в рожу или назвать при всех подлецом, так из кожи вылезет, чтобы достать деньги и заплатить, а этот ничего, только смеется. Следовательно, надо было действовать на отца. А старик хоть и держал своего сына в черном теле, однако ж любил его, но любил, если можно так выразиться, утробою. Вот эту-то утробную любовь и решились мы эксплуатировать. В один прекрасный вечер двое из нас переоделись в официяльное платье и, перекрестившись, отправились к Размахнину. Старик перепугался, особливо как мы ему объяснили, что цель нашего посещения заключается в том, чтобы сына его, за такие-то и такие-то дебоширства, взять и отвезти в такое место, куда, можно сказать, ворон костей не нашивал... Проливает слезы, валяется в ногах: "Батюшки, говорит, что хотите возьмите, только Алешку моего не трожьте! я, говорит, его сею минутою через чухонских контрабандистов за границу отправлю". И смиловались мы над положением злополучного старца -- взяли сто тысяч и ушли. Только тут случилась с нами самая скверная штука: выходим мы на подъезд, потихоньку даже посмеиваемся, как вдруг перед нами, словно из земли выросли, три кавалера ужаснейших размеров... Уж, кажется, я не могу назваться слабонервным, а даже и со мной дурно сделалось... И вот, как видите, я в Крутогорске, прочие в других тихих городах переплывают многоволнистое житейское море... Что делать! il faut que jeunesse passe! [надо, чтобы молодость прошла! (франц.)]
Такого рода добродушная откровенность делала отношения к Горехвастову чрезвычайно легкими и приятными. В крутогорских салонах было решено, что молодой человек "увлекался" -- кто же не увлекался в молодости? -- но что, во всяком случае, нельзя же увлеченья в порок ставить. И на совете губернских аристократов было решено Горехвастова принимать, но в карты с ним не играть, и вообще держать больше около дам, для которых он, своими талантами, может доставить приятное развлечение. А так как я также (говорю это не без некоторой гордости) был всегда одним из ревностнейших посетителей крутогорских салонов, то, следуя за общим движением умов, тоже в скором времени сблизился с Горехвастовым, и он даже очень полюбил меня.
-- Entre nous soit dit [Между нами говоря (франц.).], -- говаривал он мне по этому случаю, -- мы одни только и можем понимать друг друга. Посмотрите кругом: что это за чудаки, что за рожи, что за костюмы! Один из своего фрака точно из брички выглядывает; другой курит сигары, от которых воняет печеными раками; третий прибегает к носовому платку только для того, чтобы обтереть им пальцы; четвертый, когда карты сдает, оба пальца первоначально в рот засунет... Господи! какое безобразие! Поэтому вы не удивляйтесь, Николай Иваныч, если я предпочитаю быть с вами.
И я действительно, по врожденной мне скромности, с терпением взирал на его посещения, которые иногда не на шутку меня одолевали.
Что касается до Рогожкина, то это маленький человечек, совершенно кругленький. Он когда-то служил в военной службе, но вскоре нашел, что тут только одно расстройство здоровья, вставать надо рано, потом часов пять ходить, а куда идешь -- неизвестно, и потому решился приютиться по гражданской части, где, по крайности, хоть выспаться вволю дают. В настоящее время он имеет тот несколько томный вид, который невольным образом приобретают искатели мест, не снабженные достаточно убедительными рекомендательными письмами. Но когда разговор заходит о каком-нибудь вакантном месте, то в глазах его внезапно зажигается плотоядный огонь и на устах показывается слюнотечение. Говорит он довольно вразумительно, но с околичностями, и усердно смеется, когда того требуют обстоятельства или когда видит, что другие смеются. Впрочем, он малый добрый и привязанный, а на Горехвастова смотрит как на высшее существо и охотно исполняет его маленькие поручения, как-то: набивает и закуривает ему трубку, распоряжается насчет питейного и съедобного и сопутствует ему везде, где только может. Голос у него самый тоненький, можно сказать, детский, глазки маленькие и с глянцем, точно у пшеничных жаворонков, которым вставляют, вместо глаз, можжевеловые ягодки.
В утро, когда начинается мой рассказ, Горехвастов был как-то особенно разговорчив. Он разлегся на диване, закурив одну из прекрасных сигар, которые я выписывал для себя из Петербурга, и ораторствовал. Перед диваном, на круглом столе, стояла закуска, херес и водка, и надо отдать справедливость Горехвастову, он не оставлял без внимания ни того, ни другого, ни третьего, и хотя хвалил преимущественно херес, но в действительности оказывал предпочтение зорной горькой водке. Рогожкин, с своей стороны, не столько пил, сколько, как выражаются, "потюкивал" водку.
-- А скажите, пожалуйста, Николай Иваныч, -- сказал мне Горехвастов, -- откуда у вас берутся все эти милые вещи: копченые стерляди, индеечья ветчина, оленьи языки... и эта бесценная водка! -- водка, от которой, я вам доложу, даже слеза прошибает! Да вы Сарданапал, Николай Иваныч!.. нет, вы просто Сарданапал!
Я сообщил ему, как умел, требуемые сведения.
-- А что ни говорите, -- продолжал он, -- жизнь -- отличная вещь, особливо если есть человек, который тебя понимает, с кем можешь сказать слово по душе! Я вам доложу про себя, Николай Иваныч: я век свой прожил шутя... Бывали у меня, конечно, происшествия, бывали неприятности -- ну, бывали! что ж из этого! разве следует от этого унывать духом, приходить в отчаяние? Живал я и в Петербурге, езжал и в каретах, и сотнями тысяч ворочал, и игру вел, и француженок содержал -- ну, было, было все это! Ну, а теперь живу в Крутогорске, езжу на безобразной долгуше, играю по копейке в ералаш и, получая от казны всего шесть целковых в месяц содержания, довольствуюсь, вместо француженки, повивальною бабкой! И между тем, как видите, не унываю и даже не отчаиваюсь в своем будущем!
Он привстал на диване и налил себе рюмку зорной.
-- А все оттого, что вот здесь, в этом сердце, жар обитает! все оттого, хочу я сказать, что в этой вот голове свет присутствует, что всякую вещь понимаешь так, как она есть, -- ну, и спокоен! Я, Николай Иваныч, патриот! я люблю русского человека за то, что он не задумывается долго. Другой вот, немец или француз, над всякою вещью остановится, даже смотреть на него тошно, точно родить желает, а наш брат только подошел, глазами вскинул, руками развел: "Этого-то не одолеть, говорит: да с нами крестная сила! да мы только глазом мигнем!" И действительно, как почнет топором рубить -- только щепки летят; генияльная, можно сказать, натура! без науки все науки прошел! Люблю я, знаете, иногда посмотреть на нашего мужичка, как он там действует: лежит, кажется, целый день на боку, да зато уж как примется, так у него словно горит в руках дело! откуда что берется!
-- Да-с... это точно... приятное зрелище! -- пролепетал Рогожкин, -- вот я однажды...
-- Генияльная натура, доложу я вам, -- перебил Горехвастов, -- науки не требует, потому что до всего собственным умом доходит. Спросите, например, меня... ну, о чем хотите! на все ответ дам, потому что это у меня русское, врожденное! А потому я никогда и не знал, что такое горе!
Он задумался. Рогожкин в это время умильно посматривал на него и выражал свое наслаждение тем, что усиленно терся спиною о спинку стула.
-- А бывали-таки у меня случаи -- такое сцепление, что даже описания достойно! Надо вам сказать, что состояние у меня было небольшое; отец и мать мои, бесспорно, были благородного звания, но при настоящем развитии цивилизации, при колоссальности нашего кругозора, это благородство, можно сказать, только путает. Воспитание получил я отличнейшее; в заведении, которое приютило мою юность, было преимущественно обращено внимание на приятность манер и на то, чтобы воспитанники смотрели приветливо и могли говорить -- causer -- обо всем. Воспитывались со мной вместе и графы и бароны; следовательно, мы в самом заведении вели жизнь веселую; езжали, знаете, по воскресеньям к француженкам и там приобрели мало-помалу истинный взгляд на жизнь и ее блага. Можете, стало быть, представить себе мое положение, когда я, по выходе из заведения, должен был затесаться куда-то в четвертый этаж, где вороны чуть не на самой лестнице гнезда вьют! Конечно, я, как водится, поступил и на службу, но, между нами, это материя скучная. Я понимаю, что можно служить, как служат, например, князья Патрикеевы, Щенятевы, Ижеславские, Оболдуи-Таракановы. Они, я вам доложу, посостоят крошечку, а потом и катают внезапно в государственные мужи. Этак служить приятно, il n'y a rien Ю dire [что и говорить (франц.)]. Но сидеть каждый день семь часов в какой-то душной конуре и облизываться на место помощника столоначальника -- се n'est pas mon genre...[это не для меня... (франц.)] Других карьер также в виду не имеется, то есть, коли хотите, они и есть, но все это скучная материя, черепословие, а я, вы понимаете, славянин, хочу жить, хочу жуировать: homo sum et nihil humani a me alienum puto [я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.)]. Положение мое было, следовательно, прескверное... И вот встречается со мною однажды на жизненном пути тот самый Петр Бурков, о котором я уж вам как-то говорил. Встречается и держит такую речь: "Грегуар, -- говорит он мне, -- я вижу по твоим глазам, что ты жаждешь фортуну сделать!" Я ему сознался, и сознался со всею откровенностью. Я был честолюбив, Николай Иваныч! я чувствовал, что стою выше общего уровня! Я сознавал, что тут, в этом сердце, есть достаточно жару, чтобы сделать из меня и поэта, и литератора, и прожектера, и капиталиста -- que sais-je enfin! [не знаю, кого еще! (франц.)] Оставалось только выбрать поприще, потому что, как я вам уже сказал, русский человек на всё способен. Поэтом или литератором сделаться легко, но не выгодно -- это народ всё млекопитающийся; прожектером быть тоже не трудно, но тут опять нужно ждать, прохаживаться, знаете, по передним... Я решился быть капиталистом. И вот тот же самый Бурков свел меня с людьми... но что это за народ был, Николай Иваныч! просто я не умею даже выразить... Ах! да что об этом и вспоминать -- только себя дразнить!
Он залпом выпил рюмку хересу и так сильно ударил ею о поднос, что ножка отвалилась.
-- Я вам скажу, например, Флоранс -- что это за женщина, что это за огонь был! Сгорала, милостивый государь! сгорала и вновь возрождалась, и вновь сгорала! Однажды приезжаю к ней и вижу, что есть что-то тут неладное; губки бледные, бровки, знаете, сдвинуты, а в глазах огоньки горят.
-- Ah, c'est toi, monstre! -- говорит она, увидев меня, -- viens donc, viens que je te tue!.. [А, это ты, изверг, подойди, подойди-ка, я тебя убью!.. (франц.)] Поверите ли, насилу даже урезонить мог -- так и бросается! И вся эта тревога оттого только, что я на каком-то бале позволил себе сказать несколько любезных слов Каролине! Вот это так женщина! А! Николай Иваныч! ведь в Крутогорске таких не найдешь, сознайтесь?
Я вынужден был согласиться.
-- Да-с... аппетитная штучка эта Флоранчик была!.. хе-хе! -- проговорил Рогожкин. -- А что, Григорий Сергеич, если бы этот Флоранчик... так сказать, на место Марины Ферапонтовны... хе-хе! сюжет был бы тово-с... подходящий-с!
Горехвастов свирепо посмотрел на него.
-- А впрочем, Григорий Сергеич, вам бога гневить нечего, -- продолжал Рогожкин, -- Марина Ферапонтовна тоже-с... дама плотная-с... хе-хе!..
-- Ну, ты что понимаешь!
-- Помилуйте-с, Григорий Сергеич! как не понимать-с: это и малый ребенок понимает-с... счастливчик вы, Григорий Сергеич!.. однако ж, извините-с, извольте продолжать.
-- Были у меня тогда деньги, -- начал снова Горехвастов, -- коммерсан такой проявился, которого мы, можно сказать, без малейшего напряжения мышц обобрали -- деньги были, следовательно, большие. Ну, что такое деньги? спрашиваю я вас -- что такое деньги, как не презренный металл? Ну, и точно, бросал я тогда этот металл пригоршнями, так что у Флоранс, бывало, только глазки светятся. В кружевах ее утопил, мебели incruste завел: на столах бронзы, фарфор, на стенах -- Тинторетт, Поль Поттер, Ван-Дейк. Словом сказать, en grand [широко (франц.)] жили, черт побери! Приедешь, бывало, ночью с работы домой, измученный, и прямо к ее постели. А она, знаете, ручонки протягивает, глазенки открывает, и глазенки, знаете, томные, влажные: "Eh bien, mon farceur d'homme, as-tu beaucoup gagne ce soir?" [Ну как, шалопай ты эдакий, много ли выиграл за этот вечер? (франц.)] -- "Выиграл, жизнь ты моя, выиграл, только люби ты меня! любишь, что ли?" А она, знаете, как кошечка, потянется этак в постельке: "Lioubliou", -- говорит... ах! да вы поймите, как это нежно, как это воздушно lioubliou!.. А знаете ли, черт побери, не выпить ли нам с горя по бокальчику!
-- Ах, сделайте одолжение, -- сказал я, смущенный несколько моею недогадливостью, -- Петр Васильич! распорядитесь, пожалуйста.
-- Да ты, братец, скажи человеку, чтоб завертел хорошенько! -- прибавил от себя Горехвастов, -- а то они его так теплое и подают -- vous n'avez pas l'idИe comme ils sont brutes, ces gens-lЮ! [вы не можете себе представить, как они тупы, эти люди! (франц.)] Признаюсь вам, я, грешный человек, люблю этак и поесть и выпить -- в меру, знаете, в меру... Если б вы сделали мне честь, побывали у меня в Петербурге в то время, когда я был в счастии, я попотчевал бы вас таким винцом, перед которым и ваше, пожалуй, сконфузится. В горле оно, знаете, точно атлас, а между тем в нос бьет! Но возвращусь к Флоранс. Я принял ее у барона Оксендорфа -- знаете, известный магнат есть, на острове Эзеле. Беловолосый сын Эстонии сначала было заартачился, начал было там свои was soil das heissen [что это значит (нем.)], но я показал ему кулак такого колоссального размера, о котором на острове Эзеле не имеют никакого понятия. "Барон, -- сказал я ему, -- у меня течет в жилах кровь, а у вас лимфа; и притом видите вы эту машину?" -- "Вижу", -- сказал он мне. "А если видите, -- сказал я ему, -- то знайте, что эта машина имеет свойство, в один момент и без всяких посредствующих орудий, обращать в ничто человеческую голову, которая, подобно вашей, похожа на яйцо! Herr Baron! разойдемтесь!" -- "Разойдемтесь, Herr Graf", -- сказал он мне, хотя я и не граф. И мы разошлись... разошлись потому, что барон понял, что одна минута более -- и остров Эзель лишился бы лучшего своего украшения...
Горехвастов самодовольно обнажил свою жилистую, покрытую волосами руку и протянул ее, как будто хотел, чтобы мы понюхали, как она пахнет.
-- Да-с, устройство благонадежное, -- пролепетал Рогожкин.
-- И надо было видеть, как она любила меня! этак могут любить только француженки! обовьется, бывало, около меня -- и не выпускает...
-- Эх, канальство! -- сказал Рогожкин и, сказавши это, как-то сладострастно хикнул и, неизвестно вследствие каких соображений, запел: "Ой вы, уланы!"
-- Или вот на диване раскинется...
-- Нет уж, Григорий Сергеич, сделайте ваше одолжение, -- прервал Рогожкин, поспешно разливая по стаканам принесенное вино, -- мы тоже ведь люди, тоже человеки-с... чувствовать можем...
-- Мастерица она была тоже гривуазные песни петь. "Un soir a la barriere" ["Как-то вечером у заставы" (франц.)] выходило у ней так, что пальчики облизать следует... Вот такую жизнь я понимаю, потому что это жизнь в полном смысле этого слова! надо родиться для нее, чтобы наслаждаться ею как следует... А то вот и он, пожалуй, говорит, что живет! -- прибавил он, указывая на Рогожкина.
Рогожкин обиделся.
-- Что же вы, Григорий Сергеич, в сам-деле обижаете? -- сказал он. -- Конечно, нам до вас далеко, потому как и размер у нас был не такой, однако, когда в полку служили, тоже свои удовольствия имели-с...
-- Ну, какие твои удовольствия! чай, кошку камнем на улице зашибить!..
-- Нет-с, не кошку зашибить-с, а тоже жидов собаками травливали-с... Капитан Полосухин у нас в роте был: "Пойдемте, говорит, господа, шинок разбивать!" -- и разбивали-с.
-- Ну, это еще туда-сюда...
-- Или вот тот же капитан Полосухин: "Полюбилась, говорит, мне Маша Цыплятева -- надо, говорит, ее выкрасть!" А Марья Петровна были тоже супруга помещика-с... И, однако, мы ее выкрали-с. Так это не кошку убить-с... Нет-с! чтоб одно только это дело замазать, Полосухин восемьсот душ продал-с!
-- Ну уж и восемьсот! верно, вдесятеро приврал! ну, куда же армейскому офицеру, да еще пехотинцу, восемьсот душ иметь!
-- Нет-с, Григорий Сергеич, не говорите этого! Этот Полосухин, я вам доложу, сначала в гвардейской кавалерии служил, но за буйную манеру переведен тем же чином в армейскую кавалерию; там тоже не заслужил-с; ну и приютился у нас... Так это был человек истинно ужаснейший-с! "Мне, говорит, все равно! Я, говорит, и по дорогам разбивать готов!" Конечно-с, этому многие десятки лет прошли-с...
-- Ну, а что же Флоранс? -- спросил я.
Горехвастов, который совсем было и забыл про Флоранс, посмотрел на меня глазами несколько воспаленными, на минуту задумался, провел как-то ожесточенно рукою по лбу и по волосам и наконец ударил кулаком по столу с такою силой, что несколько рюмок полетело на пол, а вино расплескалось на подносе.
-- Извините, -- сказал он угрюмо, -- Д-да... Флоранс... гм... Флоранс...
Последовало несколько минут молчания, в продолжение которого Горехвастов то беспрестанно и усиленно вздыхал, то судорожно стискивал между пальцами какую-нибудь несчастную прядь своих собственных волос, то искривливал свои губы в горькую и презрительную улыбку. Очевидно, что он готовился произвести эффект.
-- Обманула! -- закричал он наконец, вскакивая из-за стола, визгливым голосом, выходившим из всяких границ естественности, -- вы это понимаете: обманула! Обманула, потому что я в это время был нищ; обманула, потому что в это время какая-то каналья обыграла нашу компанию до мозга костей... Обманула, потому что без денег я был только шулер! я был только гадина, которую надо было топтать, топтать и...
Он с ожесточением рвал на себе волосы и наконец упал в изнеможении на диван.
-- Пускай отдохнут, -- шептал между тем Рогожкин, -- любопытнейший ихний роман-с!
И действительно, минут через десять Горехвастов был уже спокоен: кровь, которая прилила было к голове, опять получила естественное обращение, и минутное раздражение совершенно исчезло. Вообще он не выдерживал своей игры, потому что играл как-то не внутренностями, а кожей; но для райка это был бы актер неоцененный.
-- В одно прекрасное утро, -- продолжал он, -- я очутился без хлеба, без денег и без любовницы. Я вышел на улицу, выгнанный из собственной моей квартиры, из той самой квартиры, где накануне еще какой-то шутник, желая заискать мое расположение, написал на стене: ману-текел-фарес. Ночь была зимняя и морозная, но я ничего не чувствовал, ничего не понимал. Передо мною все мелькала бледная улыбка банкомета, который бил карту за картой и постепенно лишал меня жизни... Эта улыбка затемняла всю мою мысль; она мешала прийти в себя! Я мог только с изумлением смотреть на эту воображаемую улыбку и бессознательно следить за белыми худощавыми руками, которые как-то бездушно щелкали по столу, высасывая ежемгновенно все мое существо... В эту минуту я был близок к отчаянию, я готов был стать среди улицы на колени и просить прощения. Я был похож на того жалкого пропойца, который, пробезобразничав напролет ночь в дымной и душной комнате, выбегает утром, в одном легоньком пальтишке, на морозный воздух и спешит домой, бессознательно озираясь по сторонам и не имея ни единой мысли в голове... Но я, быть может, надоедаю вам, господа, своими похождениями?
-- Помилуйте, как это можно! -- поспешил я сказать.
-- И если б не Бурков, то кто знает, имел ли бы я теперь удовольствие беседовать с вами, господа. Наше несчастие было общее; я шел к нему, твердо решившись перенести все удары, все ругательства, потому что показал себя в этом деле не только опрометчивым, но даже глупым и, следовательно, заслуживал самых тяжких обид и истязаний. Но он поступил иначе... он победил мою покорность своим великодушием. Он не только не избил меня, как я был того достоин, но и поделился со мною тою небольшою суммой, которая у него осталась в целости. "Будем жить en artistes!" [как художники! (франц.)] -- сказал он мне. И мы действительно наняли скромную квартиру и начали жить en artistes... Так вот-с какие со мной бывали переходы, господа! Жизнь мою можно уподобить петербургскому климату: сегодня оттепель, с крыш капель льет, на улицах почти полая вода, а завтра двадцатиградусный мороз гвоздит... И, однако ж, живут-ухитряются люди!
-- Да-с, это точная истина, что живучее человека нет на свете твари, -- вступился Рогожкин. -- Вот хоть бы тот же капитан Полосухин, об котором я уж имел честь вам докладывать: застал его однажды какой-то ревнивый старец... а старец, знаете, как не надеялся на свою силу, идет и на всякий случай по пистолету в руках держит. Ну-с, капитан точно что сконфузился и живым манером полез под кровать. "Выходи, подлец!" -- говорит старец. "Не выйду", -- кричит Полосухин. И точно-с, три дня там лежал, покуда старец сам, что называется, плюнул. После мы его спрашивали, как он этакую пытку вытерпел? "Ничего, говорит, облежался..."
-- А если хотите, -- продолжал Горехвастов, расплываясь и впадая в сентиментальность, -- коли хотите, и житье en artistes -- славное житье. Конечно, тут трюфелей не ищи, но зато есть эта беспечность, cet imprevu [эта неожиданность (франц.)], это спокойствие совести, которое, согласитесь сами, дороже всех земных благ...
Рогожкин подмигнул мне глазом, как будто хотел сказать: "Знаем мы это спокойствие совести!" Но за всем тем в этом подмигивании выражалось не осуждение, а, напротив того, безгранично нежное сочувствие к подвигам Горехвастова.
-- Поселились мы в четвертом этаже, на дворе... Конечно, и высоко оно... ну, и запах, знаете... одним словом, нехорошо, очень нехорошо. Но счастье не в каменных палатах обитает, сказал какой-то философ, и это мудрое изречение оправдалось на нас. Буркова полюбила Саша, а меня полюбила Катя. Немудреные были эти девочки -- il n'y a rien a dire [что и говорить (франц.)], однако в них был тот запах дикого, нелелеянного растения, который на охотника, пожалуй, слаще всякого оранжерейного цветка действует. И притом, знаете, эта преданность, эта готовность на всякого рода жертвы... Согласитесь, что в нашем грустном положении такая находка была просто бесценна. Звания наши возлюбленные были не высокого: всего-навсе горничные каких-то госпож, живших в одном с нами доме. Ходили они к нам урывками, но об этих урывках я и до сих пор вспоминаю с наслаждением. Я даже думаю, что тот, кто хочет испытать всю силу пламенной любви, тот именно должен любить урывками: это сосредоточивает силу страсти, дает ей те знойные тоны, без которых любовь есть не что иное, как грустный философический трактат о бессмертии души.
-- Истинная правда! -- прервал Рогожкин, -- вот у нас в полку служил поручик Живчиков, так он как залучит, бывало, метреску, да станет она ему свои резоны рассказывать: "Ты, говорит, мне момо-то не говори, а подавай настоящее дело"... Погубители вы! -- продолжал он, обращаясь к Горехвастову и трепля его по ляжке.
-- Однажды приходит Катя и объявляет, что ее госпожа очень заинтересована мной. Как ни мила идиллия, как ни прекрасны "ручейки и мурава зеленая", но для широких натур существует на свете своего рода фатум, который невольным образом увлекает их из тесных сфер на иное, блестящее поприще. Коли хотите, я освоился с своею скромною долей, то есть склонил голову перед судьбой, но все-таки чувствовал, что место мое не здесь, не на этой маленькой тесной арене, где я имел вид рыбы, выброшенной бурею из воды. Одним словом, я задыхался в четвертом этаже, я жаждал блеску и света, меня давила эта умеренность, с которою могут ужиться только убогие, посредственные натуры... Был у нас сосед по квартире, некто Дремилов: этот, как ни посмотришь, бывало, -- все корпит за бумагой; спросишь его иногда: "Что же вы, господин Дремилов, высидели?" -- так он только покраснеет, да и бежит скорее опять за бумажку. Ну что это за жизнь? спрашиваю я вас, и может ли, имеет ли человек право отдавать себя в жертву геморрою? И чего, наконец, он достигнет? "Я, говорит, буду ученым, хочу принести пользу науке!" Хорош ученый, который не имеет понятия о жизни! Да я на первом слове докажу ему, что все его затеи не что иное, как грустное черепословие, потому что нам, наконец, не умозрения эти тусклые нужны, а жизнь, вы понимаете: ж-ж-изнь!.. Телемахидисты они все!..
Вся фигура Горехвастова, во время этой выходки, выражала такое полное, глубокое презрение к бедному Дремилову, что мне сделалось даже вчуже совестно за несчастного труженика.
-- Да вы, Григорий Сергеич, к делу-с, -- сказал Рогожкин, притопывая ногой.
-- Надо вам сказать, messieurs, -- продолжал Горехвастов, -- что барыня, которой я имел честь понравиться, была очень безобразна... Признаюсь вам, я даже несколько затруднился. Однако Бурков и тут меня выручил. "Что ж, сказал он мне, надо быть снисходительным к человеческим слабостям; ведь эта милая капиталистка представляет для нас единственную надежду выйти из скверного положения... Пожертвуй собой священным узам дружбы!" И я пожертвовал. Пришел я к ней, по приглашению, вечером; она сидела, как сейчас помню, на диване, во всем величии своего безобразия, и когда я вошел, то осмотрела меня в лорнет с головы до ног как товар. Должно быть, я очень ей пришелся по вкусу, потому что она то и дело повторяла: "Charmant! charmant!" [Очаровательно! очаровательно! (франц.)] Но я был нестерпимо глуп в этот вечер; сердце у меня не то чтобы билось, а как-то, знаете, неприятно колотило грудь. Одним словом, я был робок, застенчив, нелеп. Однако это ей, по-видимому, еще более понравилось, потому что слово "charmant" не переставало сходить с ее языка. И в самом деле, без хвастовства скажу, я был очень недурен собой. В то время, знаете, все это было не измято, кровь обращалась быстро... А старушки все эти подробности разбирают по-аматёрски: их сентиментальничаньем да томными взглядами не удивишь... Конечно, я и теперь могу нравиться, но все, знаете, нет этого огня, который в одну минуту зажигает пожары...
-- Знают себе цену! -- прервал Рогожкин, -- полноте-с, Григорий Сергеич, скромничать-то! об этом надобно допросить у Марины Ферапонтовны, как у вас огня якобы нет.
-- В одно прекрасное утро я увидел себя обладателем небольшого капитала, и счел уже возможным бросить тяжелый образ жизни, который положительно расстраивал мое здоровье. "И конечно! -- сказал Бурков, которому я сообщил о моих намерениях, -- ну, потешил старуху -- и черт с ней!" Оставалось решить, какое употребление сделать из приобретенного капитала. "Знаешь, mon cher, -- сказал Бурков, -- мне надоел уж Петербург; все как-то здесь холодно, неприветливо, нет этой поэзии, этой милой простоты, которой просит душа... После жизненных треволнений нам нужно успокоиться, освежиться на лоне природы -- будем ездить по ярмонкам!"
-- Аи да молодец Петька Бурков! -- воскликнул Рогожкин, прыснув со смеха, -- нашел же природу... слышите ли, где? на ярмонке! Ах ты шельма!
-- Во-первых, такая скотина, как ты, -- отвечал Горехвастов сурово, -- должна выражаться о генияльных людях с почтением; во-вторых, следовало бы тебя, за твою продерзость, выбросить из окошка, а в-третьих, если тебе и прощается твой поступок на первый раз, то единственно из уважения к слабости твоего рассудка... Цыц! молчать!
Рогожкин хотел было оправдываться; он уже лепетал, что слово "шельма" употреблено им не в осуждение, но Горехвастов взглянул на него так грозно, что он присел.
-- Однако мы не нашли покоя, которого искали, -- продолжал Горехвастов несколько сентиментально, -- однажды я метал банк, и метал, по обыкновению, довольно счастливо, как вдруг один из понтеров, незнакомец вершков этак десяти, схватил меня за руки и сжал их так крепко, что кости хрустнули. "Вы, сударь, подлец", -- сказал он мне. Я обиделся; но он так сжал мои руки, что я чувствовал себя совершенно в клещах. "Вы подлец, -- продолжал он, -- и я сейчас это докажу". Ну, и доказал... "Вы, говорит, должны сейчас выйти вон отсюда, через это окошко". Дело было во втором этаже, а в этих проклятых провинциях вторые этажи бог знает как высоко от земли строятся. Я было протестовал, но тут поднялись такие дикие крики, что я внезапно озяб, несмотря на то что в комнате было даже душно. "Выбросить его, каналью!" -- кричали одни. "Да головой вниз, а руки сзади связать!" -- предлагали другие. "Нет, господа, -- возразил незнакомец, -- такое важное дело надо в порядке устроить: сначала оберем все капиталы у господина промышленника, а потом предложим ему выпрыгнуть из окна самому..."
Горехвастов остановился и углубился на минуту в горестные размышления.
-- Вина, Рогожкин! -- сказал он, как бы просыпаясь от неприятного сновидения и приходя в деланный азарт, -- вина, черт побери, вина!
Рогожкин засуетился.
-- И такова несправедливость судеб, -- продолжал Горехвастов, -- что мне же велено было выехать из города...
-- Сс, -- произнес Рогожкин, качая головой
-- Что уж со мной после этого было -- право, не умею вам сказать. Разнообразие изумительное! Был я и актером в странствующей труппе, был и поверенным, и опять игроком. Даже удивительно, право, как природа неистощима! Вот кажется, упал, и так упал, что расшибся в прах, -- ан нет, смотришь, опять вскочил и пошел шагать, да еще бодрее прежнего.
-- Нет-с, Григорий Сергеич, воля ваша, а вы расскажите про Машеньку-то! -- сказал Рогожкин.
-- Да, это было чудное, неземное существо! -- отвечал сентиментально Горехвастов, -- она любила меня, любила так, как никто никогда любить не будет. Была она купеческая жена... Казалось бы, "купеческая жена" и "любовь" -- два понятия несовместимые, а между тем, знаете ли, в этом народе, в этих gens de rien [простых людях (франц. )], есть много хорошего... право! Бедная Мери! она пожертвовала мне всем: "Ты и хижина на берегу моря!" -- говорила она мне, и я уверен, что она была искрения, и в крайнем случае могла бы даже обойтись и без моря. Я в то время принадлежал к странствующей труппе актеров, и мы видались довольно часто. Но что это были за свиданья, Николай Иваныч, я даже приблизительно не могу описать вам! Это было нечто знойное, душное, саднящее... почти нестерпимое! Я блаженствовал. Однако ж, в одно прекрасное утро, она приходит ко мне совершенно растерянная "Знаешь ли, говорит, мой идол, мы открыты!" Оказалось, что ее гнусный муж, эта сивая борода, заметил ее посещения и туда же вздумал оскорбляться! Я задумался. "Мери, -- сказал я ей, -- хочешь навеки быть моею?" Ну, разумеется, клятвы, уверения; положили на том, чтобы ей захватить как можно больше денег и бежать со мной. Но нет, я не в силах продолжать...
Горехвастов поник головой и начал горько подергивать губами, а через несколько времени сдержанным и дрожащим голосом произнес:
-- И я ее оставил!.. я взял все ее деньги и бросил ее на первой же станции!
Он вскочил с дивана и, обхватив обеими руками голову, зашагал по комнате, беспрестанно повторяя:
-- Нет! я подлец! я не стою быть в обществе порядочных людей! я должен просить прощения у вас, Николай Иваныч, что осмелился осквернить ваш дом своим присутствием!
В это самое время мой камердинер шепнул мне на ухо, что меня дожидается в передней полицеймейстер Хотя я имел душу и сердце всегда открытыми, а следовательно, не знал за собой никаких провинностей, которые давали бы повод к знакомству с полицейскими властями, однако ж встревожился таинственностью приемов, употребленных в настоящем случае, тем более что Горехвастов внезапно побледнел и начал дрожать.
-- Извините, Николай Иваныч, -- начал господин полицеймейстер, -- но у вас в настоящее время находится господин Горехвастов.
-- Точно так-с, -- отвечал я, невольным образом робея, -- но какое же отношение между господином Горехвастовым и вашим посещением?.. ах, да не угодно ли закусить?..
-- Благодарю покорно, я сыт-с. У меня до господина Горехвастова есть дельце... Вчерашний день обнаружилась в одном месте пропажа значительной суммы денег, и так как господин Горехвастов находился в непозволительной связи с женщиною, которая навлекает на себя подозрение в краже, то... Извините меня, Николай Иваныч, но я должен вам сказать, что вы очень неразборчивы в ваших знакомствах!
Я поник головой.
-- Я как отец говорю вам это, -- продолжал господин полицеймейстер (мне даже показалось, что у него слезы навернулись на глазах), -- потому что вы человек молодой еще, неопытный, вы не знаете, как много значат дурные примеры...
-- Помилуйте, ведь и князь Лев Михайлыч принимает господина Горехвастова! -- решился я сказать.
-- Князь Лев Михайлыч особа престарелая-с; они, так сказать, закалены в горниле опытности, а у вас душа мягкая-с!.. Вы все равно как дети на огонь бросаетесь, -- прибавил он, ласково улыбаясь.
-- Так вам угодно...
-- Да-с; я бы желал произвести арест-с... Господин Горехвастов! -- сказал он, входя в комнату, -- вы обвиняетесь в краже казенных денег... благоволите следовать за мной!
Горехвастов не прекословил; он внезапно упал духом до такой степени, как будто потерял всякое сознание. Мне даже жалко было смотреть на его пожелтевшее лицо и на вялые, как бы машинальные движения его тела.
-- А! и ты здесь, Рогожка! -- продолжал господин полицеймейстер, заметив Рогожкина, который забился в угол и трясся всем корпусом.
Рогожкин начал усиленно топтаться на одном месте.
-- Захватить кстати и его, -- сказал господин полицеймейстер, обращаясь в переднюю, из которой вылезли два кавалера колоссальных размеров.
Я невольным образом вспомнил возвращение от Размахнина.
В ОСТРОГЕ
ПОСЕЩЕНИЕ ПЕРВОЕ
Вид городской тюрьмы всегда производит на меня грустное, почти болезненное впечатление. Высокие, белые стены здания с его редкими окнами, снабженными железными решетками, с его двором, обнесенным тыном, с плацформой и мрачною кордегардией, которую туземцы величают каррегардией и каллегвардией, -- все это может навести на самого равнодушного человека то тоскливое чувство недовольства, которое внезапно и безотчетно сообщает невольную дрожь всему его существу.
Что привело сюда их, этих странников моря житейского? Постепенно ли, с юных лет развращаемая и наконец до отупения развращенная воля или просто жгучее чувство личности, долго не признаваемое, долго сдерживаемое в разъедающей борьбе с самим собою и наконец разорвавшее все преграды и, как вышедшая из берегов река, унесшее в своем стремлении все -- даже бедного своего обладателя? Мы, люди прохожие, народ благодушный и добрый; мы, по натуре своей, склонны более оправдывать, нежели обвинять, скорее прощать, нежели карать; притом же мы делом не заняты -- так мудрено ли, что такие вопросы толпами лезут в наши праздные головы?..
Нам слышатся из тюрьмы голоса, полные силы и мощи, перед нами воочию развиваются драмы, одна другой запутаннее, одна другой замысловатее... Как ни говорите, а свобода все-таки лучшее достояние человека, и потому как бы ни было велико преступление, совершенное им, но лишение, которое его сопровождает, так тяжело и противоестественно само по себе, что и самый страшный злодей возбуждает чаше сожаление, коль скоро мы видим его в одежде и оковах арестанта. Нам дела нет до того, что такое этот человек, который стоит перед нами, мы не хотим знать, какая черная туча тяготеет над его совестью, -- мы видим, что перед нами арестант, и этого слова достаточно, чтоб поднять со дна души нашей все ее лучшие инстинкты, всю эту жажду сострадания и любви к ближнему, которая в самом извращенном и безобразном субъекте заставляет нас угадывать брата и человека со всеми его притязаниями на жизнь человеческую и ее радости и наслаждения.
Находившись, по обязанности, в частом соприкосновении с этим темным и безотрадным миром, в котором, кажется, самая идея надежды и примирения утратила всякое право на существование, я никогда не мог свыкнуться с ним, никогда не мог преодолеть этот смутный трепет, который, как сырой осенний туман, проникает человека до костей, как только хоть издали послышится глухое и мерное позвякиванье железных оков, беспрерывно раздающееся в длинных и темных коридорах замка Атмосфера арестантских камор, несмотря на частое освежение, тяжела и удушлива; серовато-желтые лица заключенников кажутся суровыми и непреклонными, хотя, в сущности, они по большей части выражают только тупость и равнодушие; однообразие и узкость форм, в которые насильственно втиснута здесь жизнь, давит и томит душу. Чувствуется, что здесь конец всему, что здесь не может быть ни протеста, ни борьбы, что здесь царство агонии, но агонии молчаливой, без хрипения, без стонов...
И между тем там, за этими толстыми железными затворами, в этих каменных стенах, куда не проникает ни один звук, ни один луч веселого божьего мира, есть также своего рода жизнь; там также установляются своеобразные отношения, заводятся сильные и слабые, образуется свое общее мнение, свой суд -- посильнее и подействительнее суда смотрительского Проникнуть в эту жизнь, освоиться с ее маленькими интересами -- нет почти никакой возможности. Надо быть или очень благодушным, или очень хитрым человеком, чтобы овладеть доверием людей, которые имеют свои причины, чтобы на всякую такого рода попытку смотреть подозрительно, как на попытку воспользоваться этим довернем в ущерб их интересам. Странное дело! эти люди, для которых преступление составляет привычку, с необыкновенным инстинктом умеют отличить истинное благодушие от хитрости и лукавства и даже от простого праздного любопытства!
У меня был в Крутогорске хороший знакомый, -- назовем его хоть Яковом Петровичем, -- который обладал особенным искусством вызывать доверие арестантов. Обязанный посещать тюрьму почти ежедневно, он знал не только историю преступления, но и характер, и даже привычки каждого арестанта. Человек он был простой и малограмотный до наивности; убежден был, что Лондон стоит на устье Волги и что есть в мире народ, называемый хвецы, который исключительно занят выделкой мази для рощения волос. По словам его, он сам мазал свою лысину этим составом, и волосы точно выросли, но такие толстые, как в лошадином хвосте, и больших усилий и страданий ему стоило, чтоб их оттуда повыдергать. Несмотря на это, он все-таки был отличнейший человек: в нем в высшей степени было развито то высокое благодушие, которое претворяет чиновника в человека, которое, незаметно для них самих, проводит живую и неразрывную связь между судьею и подсудимым, между строгим исполнителем закона и тем, который, говоря отвлеченно, составляет лишь казус, к которому тот или другой закон применить можно. Поэтому не покажется странным, если и между арестантами были у него своего рода фавориты, возбуждавшие в нем если не сочувствие, то, по крайней мере, живое участие к их положению.
Его-то обязательное содействие поставило меня в возможность поделиться с читателем рассказами, которые рекомендуются здесь его благосклонному вниманию.
Стоявший перед нами арестант был не велик ростом и довольно сухощав; но широкая грудь и чрезвычайное развитие мускулов свидетельствовали о его физической силе. Лицо у него было молодое, умное и даже кроткое; высокий лоб и впалые, но еще блестящие глаза намекали на присутствие мысли, на возможность прекрасных и благородных движений души; только концы губ были несколько опущены, и это как будто разрушало гармонию целого лица, придавая ему оттенок чувственности и сладострастия. Он вообще вел себя скромно и никогда не роптал, но частые вздохи и постоянно тоскливое выражение глаз показывали, что выпавшее ему на долю положение тяжелым камнем легло ему на сердце.
"А попал я, сударь, -- начал он, -- сюда вот каким родом. Жил я до того времени в своей семье и ничем по крестьянству от бога изобижен не был. Сторона наша лесистая, болотистая и непривольная; куда ни глянешь -- все лес, да вода, да тундра непроходимая; однако лучше этой стороны, кажется, на всем свете не сыщешь: все там хорошо. Известно дело, к чему кто сызмальства приобвык, то и любо, особливо нашему брату, мужику. Возьмем, примерно, хоть службу солдатскую -- чем не служба? -- а идти туда мало охочих сыщешь, разве уж у кого ни роду, ни племени. Худого мне в ту пору и во сне не снилось, не то что наяву; однако вот теперь в остроге. Оно и выходит, что кому какая линия написана, той и не миновать. Меня и на деревне знали; и не пьяница я был, и не вор, а вот сделал же такое дело... ну, да уж бог с ним! из сказки слова не выкинешь...
Жила у нас на деревне солдатка, Паранькой звали. Бабенка она была молодая, из себя пригожая, белая, крепонькая. Только и полюбись она мне. Деревня, известно, не город: и у колодца, и в поле, и в лесу -- везде встречаешься; там слово скажешь, там глазом мигнешь -- ну, и понятно. А я, как увижу, бывало, ее, так словно тебе нутро знобить начнет; взял бы, кажется, ее в охапку, да так бы и закоченел весь тут. Это, барин, бывает. А не то бывало и так, что под окошком избы целый вечер сидишь, и все только ждешь, не пройдет ли Параня по улице. А пройдет, так и в глазах словно светлее сделается... Не веселая, я вам доложу, эта жизнь, по той причине, что и говорить будто совсем забыл, и работать не хочется, а как вспомнишь прошлое, так и теперь бы, пожалуй, хоть мало-мальски так пожил. Выходит, что всякому человеку такое время бывает, что вот, кажется, пройдет да только сарафаном тебя заденет, так словно дрожь тебя всего проберет. А сами знаете, какой у наших баб сарафан!
Свиделись мы с нею сперва-наперво у колодца; деревенские были все на работе; стало быть, никого при этом и не было. Будто теперь вижу: опустила она в колодец бадью, а вытащить-то и не по силам.
-- Что, -- говорю, -- Параня, али тяжело? -- Да, -- говорит, -- тяжело.
Только и разговору у нас в этот раз было. Хотел я подойти к ней поближе, да робостно: хотенье-то есть, а силы нетутка. Однако, стало быть, она заприметила, что у меня сердце по ней измирает: на другой день и опять к колодцу пришла. Пришел и я. Известно, стою у сруба да молчу, даже ни слова молвить не могу: так, словно все дыханье умерло, дрожу весь -- и вся недолга. В этот раз она уж сама зачала.
-- Что ты, -- говорит, -- какой смешной ходишь, али кто тебя изобидел?
Ну, а я все молчу.
-- Ты, -- говорит, -- мне скажи, коли у тебя что болит: я ведь лекарка.
А сама нагибается, чтоб взяться за коромысло, а грудь-то у нее высокая да белая, словно пена молочная: света я, сударь, невзвидел. Бросился к ней, выхватил коромысло из рук, а сам словно остервенел: уж не то что целовать, а будто задушить ее хотел; кажется, кабы она не барахталась, так и задушил бы тут. Очень для меня этот день памятен.
Не по нраву ей, что ли, это пришлось или так уж всем естеством баба пагубная была -- только стала она меня оберегаться. На улице ли встретит -- в избу хоронится, в поле завидит -- назад в деревню бежит. Стал я примечать, что и парни меня будто на смех подымают; идешь это по деревне, а сзади тебя то и дело смех да шушуканье. "Слышь, мол, Гаранька, ночёсь Парашка от тоски по тебе задавиться хотела!" Ну и я все терпел; терпел не от робости, а по той причине, что развлекаться мне пустым делом не хотелось.
Раз как-то изымал я, однако, ее; изымал, да и говорю:
-- Что ж, мол, ты, Параня, к колодцу ходить перестала? али не люб стал?
А она, знаешь, легла у меня головонькой-то на грудь, глаза закрыла, вся словно помертвела и не дышит.
-- Что ж, -- говорю, -- Параня! молви хоть словечко!
А сам, знаешь, по голове ее глажу... Очнулась она маленько, я опять к ней.
-- Полюби, -- говорю, -- меня, Параня; горько мне без тебя и на свет-то глядеть. А она -- что бы вы, сударь, думали? -- вырвалась у меня из рук.
-- Что, -- говорит, -- на мученье, на тиранство, что ли, я тебе досталась, разбойник ты этакой, что ты надо мной властвовать задумал! Я, говорит, хочу -- люблю, не хочу -- не люблю.
И убежала.
Пришел и я, ваше благородие, домой, а там отец с матерью ругаются: работать, вишь, совсем дома некому; пошли тут брань да попреки разные... Сам вижу, что за дело бранят, а перенести на себе не могу; окроме злости да досады, ничего себе в разум не возьму; так-то тошно стало, что взял бы, кажется, всех за одним разом зарубил, да и на себя, пожалуй, руку наложить, так в ту же пору.
Время это было осеннее; об эту пору наши мужички в заводы на заработки уходит: руду копать, уголье обжигать, лес рубить; почесть что целую зиму в лесах живут. Однако как я один был сын в семье, то на эти работы еще не хаживал, да и достатками мы, супротив других, были поисправнее. Вот и вздумал я проситься у родителей в заводы. Отпустили. Пришлось на мой пай уголье обжигать; работа эта самая тяжелая; глаза дымом так и изъедает, а на лице не то чтоб божьего, а и человечьего образа не увидишь. Принялся я горячо, потому что думаю, как бы мне хоть за работой, что ли, свою дурость забыть. И точно, всю эту зиму я словно в раю блаженствовал; только вечером, отработавшись, как сядешь этак перед костром, так словно Параня из огня тоненькими струйками выходит... что ж? плюнешь, перекрестишься, и опять ничего.
Пришла опять весна, пошли ручьи с гор, взглянуло и в наши леса солнышко. Я, ваше благородие, больно это времечко люблю; кажется, и не нарадуешься: везде капель, везде вода -- везде, выходит, шум; в самом, то есть, пустом месте словно кто-нибудь тебе соприсутствует, а не один ты бредешь, как зимой, например.
Пошли наши по домам; стал и я собираться. Собираюсь, да и думаю: "Господи! что, если летошняя дурость опять ко мне пристанет?" И тут же дал себе зарок, коли будет надо мной такая пагуба -- идти в леса к старцам душу спасать. Я было и зимой об этом подумывал, да все отца-матери будто жалко.
Прибрел я домой, а на улице встречает меня Паранька. Встретила, да сама смеется. Я было отвернуться, так нет, сударь, так и тянет; подошел к ней.
-- Здравствуй, -- говорю, -- Параня!
-- Здравствуй! а много заработал?
-- Что ж ты смеешься-то? -- спрашиваю я.
-- А мне что не смеяться? разве уж и смеяться нельзя? Ишь строгой какой!
-- Да ты не смейся, -- говорю я, -- а скажи мне толком: согласна ли ты меня любить -- вот, мол, что!
Села она на скамеечку и молчит; только словно из-под платка потихоньку посмеивается; сел и я тут же возле.
-- Полно, -- говорю я, -- не дурачься, Параня; стало быть, не миновать этому делу, если вот хотел себя перемочь, да ишь нету... перестань же, Параня!
-- А разве ты за тем в работы ходил, чтоб меня забыть?
-- Да...
-- Ну, так и забывай же...
Хотела она тут встать, да я не пустил; схватил ее в охапку, да и усадил уж силом.
-- Нет, -- говорю, -- не уйду, доколе ты не ответишь, как мне желательно.
-- Да что ты, проспись! ведь у меня муж есть: что я тебе скажу?
-- Знаю я, что муж есть! да ведь он солдат!
-- Так что ж, что солдат! вот годков через пятнадцать воротится, станет спрашивать, зачем, мол, с Гаранькой дружбу завела -- даст он тебе в ту пору встрепку...
А сама все смеется и на меня глазами косит; а у меня зло так и подступает; так бы, кажется, и изорвал ее всю, да боюсь дело напортить.
-- А что, -- говорит, -- никак ты меня и взаправду любишь?
Я было к ней, так куда? понесла опять старое: муж да муж -- только и слов.
Вот и стал я ей припоминать, все припомнил: и Михейку рыжего, и татарина-ходебщика, и станового -- всех тут назвал... что ж, мол, хуже я их, что ли?
А она, сударь, хоть бы тебе поморщилась:
-- Ишь, -- говорит, -- сколько набрал!
С тем я и ушел. Много я слез через эту бабу пролил! И Христос ее знает, что на нее нашло! Знаю я сам, что она совсем не такая была, какою передо мной прикинулась; однако и денег ей сулил, и извести божился -- нет, да и все тут. А не то возьмет да дразнить начнет: "Смотри, говорит, мне лесничий намеднись платочек подарил!"
Дразнила она меня таким манером долго, и все я себя перемогал; однако бог попутал. Узнал я как-то, что Параня в лес по грибы идет. Пошел и я, а за поясом у меня топор, не то чтоб у меня в то время намерение какое было, а просто потому, что мужику без топора быть нельзя. Встретился я с ней, а она -- верно, забыла, как я ее у колодца-то трепал, -- опять надо мной посмеивается:
-- Что, -- говорит, -- знать, в лесу тоску разогнать пришел...
....................
....................
Бог свидетель, барин, не чуял я в эту пору и сам, что делаю; не знаю и теперь. Помню только, что выхватил я топор из-за пояса и бил им, куда попало, бил дотоле, доколе сам с ног не свалился. Потемнело у меня в глазах, и вся кровь в голову так и хлынула. Однако я тут уснул и спал этак с полсутки. Только выспавшись и увидевши подле себя Парашку уж мертвую, я будто очнулся и начал тут припоминать все, как было. Сначала я было испужался и хотел бежать, а потом махнул на все рукой и объявился становому. У него, сударь, в это самое время лесничий в гостях сидел -- тот самый, что платок-от ей подарил; начал было он меня бить, да мне уж что!.. Надели на меня тут колодки и привезли сюда".
Арестант вздохнул.
-- Что ж, объяснял ты об этом подробно при следствии? -- спросил я.
-- А об чем это, ваше благородие?
-- Ну, да об том, как она тебя почти сама на преступленье вызвала?
-- Сначала объяснял, а потом бросил.
-- Отчего же?
-- Да становой сказывает, что это все лишнее:
"Почти-то, говорит, не считается; ты, говорит, дело показывай, а околесицу-то не городи!"
Арестант потупился.
-- Что ж, -- продолжал он, -- виноват я; правда, что виноват... А коли по правде-то рассудить, так ведь истинно, ваше благородие, я не в своем разуме тогда был; оттого что, будь я в своем разуме, зачем бы мне экое дело делать? Я ведь знаю, что нашего брата за эти дела не похвалят... Вот их благородие довольно меня знают: сделал ли я когда дурное дело? согрубил ли кому-нибудь? а вот уж пятый год здесь! Ну, и мир весь за меня стоял: всякому ведомо, что я в жизнь никого не обидел, исполнял свое крестьянство как следует, -- стало быть, не разбойник и не душегуб был! Однако вот я в тюрьме, да и то, видишь, еще мало, потому, говорят, у тебя на душе убивство! Оно, конечно, убивство, да ведь надо его сообразить -- убивство-то!
На последних словах голос его задрожал, и щеки заметно побледнели.
-- Мне не то обидно, -- говорил он почти шепотом, -- что меня ушлют -- мир везде велик, стало быть, и здесь и в другом месте, везде жить можно -- а то вот, что всяк тебя убийцей зовет, всяк пальцем на тебя указывает! Другой, сударь, сызмальства вор, всю жизнь по чужим карманам лазил, а и тот норовит в глаза тебе наплевать: я, дескать, только вор, а ты убийца!..
В следующей каморе было несколько арестантов; при нашем появлении они все встали с нар и обступили Якова Петровича.
Впереди всех стоял молодой парень лет двадцати, не более, по прозванию Колесов; он держал себя очень развязно, и тогда как прочие арестанты оказывали при расспросах более или менее смущения и вообще отвечали не совсем охотно, он сам вступал в разговор и вел себя как джентельмен бывалый, которому на все наплевать.
-- Смирно он себя ведет? -- спросил Яков Петрович у смотрителя.
-- С тех пор, как высидел в темной...
-- Конечно-с, -- вступается арестант, -- находясь, можно сказать, в несчастии, от природы преследуем, от властей гоним; претерпев все кораблекрушения и бури житейские и будучи при всем том воспитан от родителей в мещанском состоянии, сам собой просвещение получил...
-- А что у тебя в руках? -- спрашивает Яков Петрович, беря у него из рук книгу.
-- Гражданские истории-с. Имея с малолетствия жажду к просвещению и будучи отторгнут от светского общества, единственную нахожу для себя отраду в своей невинности и в чтении назидательных историй.
Книжка оказалась какой-то переводный роман Дюма.
-- Ну, а расскажи-ка нам, за что ты тут сидишь?
-- Вашему высокоблагородию известно, что, собственно, от моей невинности-с; по той причине, что можно и голубицу оклеветать, и чрез это лишить общества образованных людей... Однако сам господин становой видели мою невинность и оправдали меня, потому как я единственно из-за своей простоты страдаю-с...
-- Да; становой за это уж и суду предан.
-- Конечно-с, мы с ним ездили на лодке, с хозяином-с; это я перед вашим высокоблагородием как перед богом-с... А только каким манером они утонули, этого ни я, ни товарищ мой объясниться не можем-с, почему что как на это их собственное желание было, или как они против меня озлобление имели, так, может, через эвто самое хотели меня под сумнение ввести, а я в эвтом деле не причастен.
Товарищ, на которого ссылался Колесов, стоял тут же и обнаруживал полнейшее равнодушие. Он тоже был мещанин, огромного роста и, по-видимому, весьма сильный. Изредка, вслушиваясь в слова Колесова, он тупо улыбался, но вместе с тем хранил упорное молчание; по всему видно было, что он служил только орудием для совершения преступления, душою же и руководителем был в этом деле Колесов.
-- Ну, а как же утопленник-то очутился с связанными назади руками?
-- Ничего я об этом, ваше благородие, объяснить не могу... Это точно, что они перед тем, как из лодки им выпрыгнуть, обратились к товарищу: "Свяжи мне, говорит, Трофимушка, руки!" А я еще в ту пору и говорю им: "Христос, мол, с вами, Аггей Федотыч, что вы над собой задумываете?" Ну, а они не послушали:
"Цыц, говорит, собака!" Что ж-с, известно, их дело хозяйское: нам им перечить разве возможно!
-- Разумеется, разумеется... А дело вот в чем, -- продолжал Яков Петрович, обращаясь ко мне, -- нужно было ихнему хозяину съездить из городу на фабрику; поехал он на лодке, а гребцами были вот эти два молодца. Хозяин купец богатейший -- вот и задумали они его утопить и деньги, которые при нем были, ограбить. Только, должно быть, купцу-то умирать еще не больно хотелось, так они ему и руки связали, чтоб не барахтался, да так в реку и кинули... Ну, разумеется, следствие. Что ж бы вы думали? Становой нашел, что все это произошло очень натурально -- вот хошь бы таким образом, как он сейчас рассказывал...
Колесов вздохнул.
-- Оно конечно-с, -- сказал он, -- ваше высокоблагородие над нами властны, а это точно, что я перед богом в эвтом деле не причинен. Против воли хозяйской как идти можно? сами вы извольте рассудить.
-- Ну, а ты что? -- обратился мой путеводитель к маленькому мужичонке, тут же стоявшему.
-- Много довольны, много довольны, ваше благородие! -- отвечал мужичонка, беспрестанно кланяясь и торопясь говорить, -- скоро ли, батюшка, решенье выдет?
-- А ты разве давно сидишь?
-- Четвертый год, ваше благородие! четвертый годок вот после второго спаса пошел... не можно ли, ваше благородие, поскорей решенье-то? Намеднись жена из округи приходила -- больно жалится: "Ох, говорит, Самсонушко, хошь бы тебя поскорей, что ли, отселева выпустили: все бы, мол, дома способнее было". Право-ну!
-- Скоро, скоро будет и решенье; однако вряд ли тебя домой отпустят...
-- Ну, стало быть, слышь, в Сибирску губернию?
-- Не знаю; только вряд ли домой попадешь... А знаете ли вы, за что он под суд попал? Дело очень простое: мужичонка он простоватый, несмышленый, и жил в большой бедности...
-- Правда эта сущая, ваше благородие, правда, -- заговорил арестант, -- такая-то бедность, что и господи! в дому вот эконькой корочки хлебца не сыщешь -- сущая это правда!
-- Между тем пришло время подать за полугодие платить. Что тут делать? денег дома нет ни копейки, достать негде, а сборщик требует настоятельно...
-- Истинно так, ваше благородие! -- опять перебил арестант, -- я, говорит, тебя нагишом в снег посажу, доколе всё до копейки не заплатишь... и посадил бы, ваше благородие, именно посадил бы...
-- Вот и задумал он в бурлаки... а впрочем, рассказывай сам, коли перебиваешь.
-- Иду я, ваше благородие, в волостное -- там, знашь, всех нас скопом в работу продают; такие есть и подрядчики, -- иду я в волостное, а сам горько-разгорько плачу: жалко мне, знашь, с бабой-то расставаться. Хорошо. Только чую я, будто позаде кто на телеге едет -- глядь, ан это дядя Онисим. "Куда, говорит, путь лежит?"
-- А вот, -- говорю, -- в волостное.
-- Почто в волостное?
-- Продаваться в бурлаки; а ты, говорю, куда?
-- А я, мол, в Опенино, полведра купить.
А мне, ваше благородие, только всего и денег-то надобно, что за полведра заплатить следует... Вот и стал мне будто лукавый в ухо шептать. "Стой, кричу, дядя, подвези до правленья!" А сам, знашь, и камешок за пазуху спрятал... Сели мы это вдвоем на телегу: он впереди, а я сзади, и все у меня из головы не выходит, что будь у меня рубль семьдесят, отдай мне он их, заместо того чтоб водки купить, не нужно бы и в бурлаки идти...
Арестант задрожал и заплакал.
-- Кончилось тем, -- договорил Яков Петрович, -- что он швырнул в дядю Онисима камнем и, взявши у него ни больше ни меньше, как рубль семьдесят копеек, явился в волостное правление и заплатил подать.
ПОСЕЩЕНИЕ ВТОРОЕ
На этот раз камора, в которую ввел меня Яков Петрович, заключала в себе лиц все чиновной породы. Их было трое, и кровати их стояли по углам. Один был в замасленном форменном сюртуке, с красным стоячим воротником, два другие -- в халатах. При нашем появлении форменный сюртук и один из халатников встали, но другой халатник продолжал лежать, растянувшись на постели. Форменный сюртук обладал довольно замечательною физиономией. Он был плотно сложен и небольшого роста; лицо его не поражало с первого взгляда ни чрезмерною глупостью, ни чем-либо особенно порочным или злым; но, вглядевшись в него пристальнее, нельзя было не изумиться той подавляющей ограниченности, той равнодушной ко всему пошлости, о которых свидетельствовали: и узкий, покатый лоб, окаймленный коротко обстриженными, но густыми и черными волосами, и потупленные маленькие глаза, в которых светилось что-то хитрое, но как бы недоконченное, недодуманное, и наконец, вся его фигура, несколько сутуловатая, с одною рукою, отделенною от туловища в виде размышления, и другою, постоянно засунутою в застегнутый сюртук. Очевидно, то был, что называется, рассудительный человек, один из тех, которые никогда не скажут положительной глупости, но от которых, при всяком их слове, веет неотразимою тошнотой и унынием. Встретится такой господин с вами на улице, и если вы не принадлежите к породе Дерновых, Гирбасовых и т. п. и не заговорите с ним сами, то он посмотрит вам, как собака, умильно в глаза, потопчется на одном месте, вздохнет, пожмет вам руку и отправится восвояси. Но если вы называетесь Гирбасовым, то разговору не будет конца -- и какому разговору!
-- А что, брат, как дела идут? -- спросит вас форменный сюртук.
-- Да что, брат, хорошо, -- ответите вы.
-- Это ладно, что хорошо, -- скажет сюртук.
-- Да, брат; хорошо не худо, худо не хорошо...
И так далее. Можно исписать целые страницы подобными наставительными речами. У этих господ всегда имеются готовые афоризмы, которыми они любят кстати щегольнуть, вроде того, что "брат, надо это дело вести с осторожностью", или "ты когда чего захотел, так того уж и хоти". Такие образчики встречаются везде, во всех слоях общества, только афоризмы бывают различные. Божий мир кишит ими -- это несомненно. Это люди ограниченные, с сплюснутыми черепами, пришибленные с детства, что не мешает им, однако же, считать себя столпами общественного благоустройства и спокойствия и с остервенением лаять на всякого, у кого лоб оказывается не сплюснутым. Я имел огорчение познакомить читателя с ними в свободном состоянии; теперь приходится познакомить с ними же в тюрьме.
Второй субъект был молодой человек довольно красивой наружности, высокий и стройный. Он носил усы, что давало ему вид отставного военного, и держал себя даже излишне приветливо. По всему было видно, что, на свободе, он пользовался особенным благоволением со стороны дамского пола, прикосновение к которому везде и всегда смягчает сердца и нравы. С другой стороны, нельзя было не заметить и того, что это же прикосновение отчасти вредоносно подействовало на здоровую и могучую натуру субъекта, потому что, несмотря на его молодость, щеки его несколько опухли и сделались уже дряблыми, а в глазах просвечивало что-то старческое.
Третий субъект был длинный и сухой господин. Он нисколько не обеспокоился нашим приходом и продолжал лежать. По временам из груди его вырывались стоны, сопровождаемые удушливым кашлем, таким, каким кашляют люди, у которых, что называется, печень разорвало от злости, а в жилах течет не кровь, а желчь смешанная с оцтом.
-- Ну, ты что, Пересечкин? -- спросил Яков Петрович у форменного сюртука.
-- Ничего-с, ваше высокоблагородие, живем по малости-с вашими молитвами, -- отвечал он, тупо улыбаясь и отставляя руку, как бы декламируя.
-- Чего им делается! -- вступился усач, -- они этого огорчения и понять не могут-с!
-- Скоро ли же эту каналью отсюда выведут? -- отозвался желчный господин, -- я ведь господина министра утруждать буду, свиньи вы этакие!
Эта апострофа, смутившая меня своею откровенностью, не оказала никакого действия на Якова Петровича. Очевидно, что ему не в первый раз пришлось подвергать свою особу подобного рода ласкам.
-- За что вы здесь содержитесь? -- спросил я Пересечкина.
Он молчал и все держал руку наотвес, как бы разговаривая сам с собой.
-- Ну, говори же, за что ты здесь посажен, -- сказал Яков Петрович.
Пересечкин совершенно неожиданно фыркнул.
-- Ишь животное! -- отозвался голос с кровати, -- даже самому смешно... скот!
-- Что же-с, сказывайте! -- понуждал усач. Пересечкин с минуту помялся и потом скороговоркою отвечал:
-- Статистику собирал-с...
-- Как статистику?
-- Точно так-с, ваше высокоблагородие! от начальства наистрожайше было предписано-с: то есть чтоб все до точности-с, сколько у кого коров-с, кур-с; даже рябчиков-с пересчитать велено было-с...
-- Да ты сказывай, животное, как ты собирал-то статистику? пчел-то позабыл, подлец?
-- Ваше высокоблагородие! -- сказал Пересечкин, обращаясь к Якову Петровичу, -- вот-с, изволите сами теперича видеть, как они меня, можно сказать, денно и нощно обзывают... Я, ваше высокоблагородие, человек смирный-с, я, осмелюсь сказать, в крайности теперича находился и ежели согрешил-с, так опять же не перед ними, а перед богом-с...
-- Да ты не виляй, скот, а рассказывай, как ты статистику-то собирал!
Пересечкин опять замялся и через несколько секунд снова фыркнул. Видно было, что он сам внутренне был совершенно доволен собой.
-- Известно-с, у мужичка был, -- сказал он наконец, -- количество пчел надлежало дознать со всею достоверностью...
-- Ну, продолжай же, продолжай!
Но Пересечкин только фыркнул.
-- Э, брат, да ты, верно, только на пакости боек, -- отозвался желчный господин, -- а дело очень простое. Призвал он мужика. "Сколько, говорит, у тебя пчел?" Тот показывает ему улья. "Нет, говорит, мне начальство пишет дознать, сколько именно у тебя пчел -- так ты, говорит, не поленись, сосчитай!" Мужик, сударь, остолбенел. "Где же, мол, их считать?" -- "Знать, говорит, ничего не хочу -- считай"... Ну, и взял он с него по целковому с улья, а в ведомости и настрочил "У такого-то, Пахома Сидорова, лошадей две, коров три, баранов и овец десять, теленок один, домашних животных шестнадцать, кур семь, пчел тридцать одна тысяча девятьсот девяносто семь".
Молчание.
-- А ведь рожа-то какая! -- продолжал желчный господин, -- глуп-то ведь как! а выдумал! Только выдумать-то выдумал, а концы схоронить не сумел.
-- Каким же образом это открылось? -- спросил я.
-- Исправник-с злодей! -- наивно отвечал Пересечкин.
-- Это точно, что злодей... и такая же ракалья, как и ты; только поумней тебя будет... Увидал, что эта скотина весь предмет таким манером обработать хочет, -- ну и донес, чтоб самому в ответе не быть... Эко животное!
-- А вы за что? -- спросил я усача.
Молодой человек, глядевший до сих пор весело, в свою очередь опустил глаза и начал обдергивать опояску у халата.
-- Что же-с, сказывайте и вы-с, -- заметил Пересечкин.
Усач взглянул на него свирепо.
-- Нет-с, -- уж когда сказывать, так сказывать всем-с, -- настаивал Пересечкин.
-- По причине женского пола-с, ваше высокоблагородие! -- отвечал усач умильно, -- как я к эвтому предмету с малолетствия привычен-с.
-- Да вы чиновник?
-- Точно так-с: канцелярский служитель Боровиков-с.
-- Что же вы сделали?
-- Сделал ли я, нет ли -- на это еще достоверных доказательств не имеется, а это точно-с, что тело ихнее в овраге нашли в бесчувствии-с...
-- Чье же тело?
-- Ихнее-с, мещанина Затрапезникова-с.
-- Ну, так что же?
-- Их благородие, господин следователь, настаивают, что будто бы мы это тело... то есть телом их сделали-с, а будто бы до тех пор они были живой человек-с... а только это, ваше благородие, именно до сих пор не открыто-с...
-- Как же случилось это происшествие?
-- Были мы, ваше высокоблагородие, в одном месте-с...
Боровиков потупился и потом продолжал:
-- Был с нами еще секретарь из земского суда-с, да столоначальник из губернского правления... ну-с, и они тут же... то есть мещанин-с... Только были мы все в подпитии-с, и отдали им это предпочтение-с... то есть не мы, ваше высокоблагородие, а Аннушка-с... Ну-с, по этой причине мы точно их будто помяли... то есть бока ихние-с, -- это и следствием доказано-с... А чтоб мы до чего другого касались... этого я, как перед богом, не знаю...
-- А как же осмотр тела-то? -- спросил Яков Петрович.
-- Об эвтим я вашему высокоблагородию доложить не в состоянии-с, а что он точно от нас пошел домой в целости-с -- на это есть свидетели-с... Может быть, они в дороге что ни на есть над собой сделали...
-- Да кто же эти свидетели?
-- Конечно, ваше высокоблагородие, свидетели наши творец небесный-с... они видели...
-- И тебе не стыдно? -- сказал Яков Петрович. Боровиков смутился.
-- Вот он самый, -- продолжал Яков Петрович, -- до этой истории был в обществе принят! в собранье на балах танцевал!.. взойди ты ему в душу-то!
-- На твоей дочери сватался! -- заметил желчный господин.
Яков Петрович плюнул.
-- Ну, а по совести, -- сказал я, -- признайтесь! точно вы Затрапезникова убили?
Боровиков молчал.
-- Здесь нет следователя...
-- Это единому богу известно-с, -- отвечал он, бросивши на меня угрюмый взгляд.
-- Где же прочие-то? -- спросил я.
-- А где! чай, в карточки поигрывают, водочку попивают, -- отозвался желчный господин, -- их сделали только свидетелями: как же можно такую знатную особу, господина секретаря, в острог посадить... Антихристы вы! -- присовокупил он, глухо кашляя.
-- А это что за господин? -- спросил я у Якова Петровича вполголоса, указывая на говорящего.
Яков Петрович дернул меня за фалду фрака и не отвечал, а как-то странно потупился. Я даже заметил и прежде, что во все время нашего разговора он отворачивал лицо свое в сторону от лежащего господина, и когда тот начинал говорить, то смотрел больше в потолок. Очевидно, Яков Петрович боялся его. Однако дерганье за фалды не ускользнуло от внимательного взора арестанта.
-- Что за фалду-то дергаешь? -- спросил он злобно.
-- Оставьте... оставьте... буйный человек-с! -- прошептал Яков Петрович.
-- То-то буйный! -- сказал арестант, медленно привставая на постели, -- вашему брату, видно, не по шкуре пришелся!
Яков Петрович хотел было удалиться.
-- Нет, ты меня выслушай, не верти хвостом! Пришел, так слушай! Вы спрашиваете, государь мой, кто я таков? -- продолжал он, обращаясь ко мне. -- Я, государь мой, поклонник правды и ненавистник лжи! вот кто я -- безделица! Имя мое не легион, как вот этаким (указательный перст устремлен на Якова Петровича, который пожимается), а Павел Трофимов сын Перегоренской -- не ский, а ской -- звание же мое отставной титулярный советник. С юных лет, государь мои, я получил страсть к истине, всосав ее, могу сказать, с млеком матери. Будучи еще секретарем в магистрате, изобрел следующие науки: правдистику, патриотистику и монархоманию. Тщетно я обращался ко всем властям земным о допущении меня к преподаванию наук сих; тщетно угрожал им карою земною и небесною; тщетно указывал на растление, царствующее в сердцах чиновнических -- тщетно! Овые отвечали молчанием, овые -- презрением и ругательством... Плоды моих усилий выразились лишь в гербовых пошлинах, коих в течение двадцати лет выплатил до тысячи серебром... Он закашлялся.
-- Что оставалось мне? Чем мог насытить я глад истины, терзавший мою душу? Оставались исправники, оставались становые... ну, и ябедник.
Он вознамерился встать, и перед нами взвилось нечто безобразно-длинное, вроде удава.
-- Ябедник, государь мой! вы понимаете: ябедник!
-- Да вы расскажите, за что вы здесь-то сидите? -- неожиданно прервал Пересечкин.
-- Приступаю к тягостнейшему моменту моей жизни, -- продолжал Перегоренский угрюмо, -- к истории переселения моего из мира свободного мышления в мир авкторитета... Ибо с чем могу я сравнить узы, в которых изнываю? зверообразные инквизиторы гишпанские и те не возмыслили бы о тех муках, которые я претерпеваю! Глад и жажда томят меня; гнусное сообщество Пересечкина сокращает дни мои... Был я в селе Лекминском, был для наблюдения-с, и за этою, собственно, надобностью посетил питейный дом...
-- Чай, просьбицу настрочить, -- сказал Пересечкин, -- известно, зачем ваш брат...
-- Зашедши в питейный дом, увидел я зрелище... зрелище, относящееся к двум пунктам-с... Мог ли я, вопрошаю вас, государь мой, мог ли я оставить это втуне? мог ли не известить предержащую власть?
Общее молчание.
-- Но здесь, здесь именно и открылась миру гнусность злодея, надменностию своею нас гнетущего и нахальством обуревающего... Получив мое извещение и имея на меня, как исконный враг рода человеческого, злобу, он, не помедлив даже мало, повелел псом своим повлещи меня в тюрьму, доколе не представлю ясных доказательств вымышленного якобы мною злоумышления... где и до днесь пребывание имею...
-- Что ж, так и по закону следует, -- заметил нерешительно Яков Петрович.
-- Следует! а следует ли, спрашиваю я тебя, раб лукавый и неверный, следует ли оставлять страждущих заключенников в жертву лютому мразу и буйствующим стихиям?
Он указал на разбитое окно. Дело происходило в июле, и дни стояли знойные.
-- Они сами беспрестанно в окнах стекла бьют, -- возразил бывший с нами смотритель замка, -- не успеешь нового вставить, смотришь, оно уж и разбито...
-- А следует ли оставлять узника боса и сира? -- продолжал Перегоренский, указывая на свои ноги, которые действительно лишены были всякой обуви.
-- Они уж третьи сапоги нарочно бросают в сортир.
-- А следует ли того же узника оставлять без пищи, томимого гладом и жаждой? -- перебил Перегоренский.
-- Они требуют вафель-с, а вафель у нас не положено... посудите сами, ваше высокоблагородие! -- возразил смотритель.
-- Все эти вопросы, и множество других, возымел я твердое намерение предложить господину министру, и не далее как с первою же почтой... И тогда -- трепещи, злодей!
-- Вот этакая-то у нас целый день каторга! -- сказал смотритель, когда мы вышли из каморы, -- хошь бы решили его, что ли, поскорей!
-- Чего же вы-то боитесь? -- спросил я Якова Петровича.
Он махнул рукой.
-- Ведь вы человек чистый, -- продолжал я, -- какая же вам надобность позволять говорить себе дерзости арестанту и притом ябеднику? разве у вас нет карцера?
-- И-и-и! -- произнес только Яков Петрович и пуще прежнего замахал руками.
-- Да как же тут свяжешься с эким каверзником? -- заметил смотритель, -- вот намеднись приезжал к нам ревизор, только раз его в щеку щелкнул, да и то полегоньку, -- так он себе и рожу-то всю раскровавил, и духовника потребовал: "Умираю, говорит, убил ревизор!" -- да и все тут. Так господин-то ревизор и не рады были, что дали рукам волю... даже побледнели все и прощенья просить начали -- так испужались! А тоже, как шли сюда, похвалялись: я, мол, его усмирю! Нет, с ним свяжись...
-- Верно, он из породы "хвецов", Яков Петрович? -- спросил я.
-- Хуже!
-- Здорово, ребята! -- крикнул Яков Петрович, входя в просторную комнату, в которой находилось человек до тридцати арестантов.
-- Здравия желаем, ваше высокоблагородие! -- закричали все в один голос.
Яков Петрович улыбнулся. Он видимо был доволен, что между арестантами прививается дисциплина и что они скандуют приветствие не хуже, чем в ином гарнизонном батальоне.
-- Всем довольны? -- спросил он.
-- Много довольны! -- отвечали голоса.
Один арестант выступил робко вперед с засаленною бумажкой в руках. То был маленький, жалконький мужичонка, вроде того, которого я имел уже случай представить читателю в первом острожном рассказе.
-- Ты по какому делу? -- спросил Яков Петрович.
-- Да вот об корове-то, ваше благородие...
-- Господи! неужто еще не кончено?
-- Не кончено, ваше благородие, да вот бают, словно и никогда ему кончанья не будет...
-- А за что ты содержишься? -- спросил я.
-- А Христос е знает за что! бают, по прикосновенности, что, мол, видел, как у соседа корову с двора сводили...
-- Разве ты не объявил кому следует?
-- Пошто не объявил! да вот бают, зачем объявил, а зачем корову с вором в полицу не преставил? А когда его преставишь! Он, чай, поди-ка троих эких, как я, одной десною придавит... известно, вор!
-- А где же вор-то?
-- А вор, батюшка, говорит: и знать не знаю, ведать не ведаю; это, говорит, он сам коровушку-то свел да на меня, мол, брешет-ну! Я ему говорю: Тимофей, мол, Саввич, бога, мол, ты не боишься, когда я коровушку свел? А становой-ет, ваше благородие, заместо того-то, чтобы меня, знашь, слушать, поглядел только на меня да головой словно замотал. "Нет, говорит, как посмотрю я на тебя, так точно, что ты корову-то украл!" Вот и сижу с этих пор в остроге. А на что бы я ее украл? Не видал я, что ли, коровы-то!
-- А ты точно сам видел, как Тимофей Саввич корову-то сводил?
-- Коли не сам! Да вот словно лукавый, прости господи, мне в ту пору на язык сел: скажи да скажи... Ну, вот теперь и сиди да сиди...
Арестант вздохнул.
-- И хошь бы науки, сударь, не было, а то и наука была. Вдругорядь со мной эко дело случается. Впервой-ет раз, поди лет с десяток уж будет, шел, знашь, у нас по деревне парень, а я вот на улице стоял... Ну, и другие мужички тоже стояли, и все глазами глядели, как он шел... Только хмелен, что ли, парень-ет был, или просто причинность с ним сделалась -- хлопнулся он, сударь, об земь и прямо как есть супротив моей избы... ну, и вышло у нас туточка мертвое тело... Да хошь бы я пальцем-те до него дотронулся, все бы легше было -- потому как знаю, что в эвтим я точно бы виноват был, -- а то и не подходил к нему: умирай, мол, Христос с тобой!.. Так нет, ваше благородие, года с три я в ту пору высидел в остроге, в эвтой в самой горнице... Какое же тут будет хозяйство!
-- Да уж и нас тоже пора бы, кажется, решить чем-нибудь, -- сказал, выступая вперед, арестант, вида не столько свирепого, сколько нахального и довольного.
-- А ты кто таков?
-- Да мы по делу о барышнях-с... Жили у нас, ваше благородие, в городе барышни, а мы у них в кучерах наймовались; жили старушки смирно, богу молились, капитал сберегали-с... Как мы в эвтом деле уж и сознание учинили, так нам скрываться для че-с?.. Только вот и думаем мы, что живут, дескать, это барышни, а и душа-то, мол, в них куриная, а капиталами большими владеют-с. Кабы да этакие капиталы да в хорошие они руки -- тут что добра-то сделать можно! Ну-с, и выбрали мы этта ночку, ночку темную, осеннюю... Ломаем, знашь, окно как следует, а барышенки-то и проснулись... Видят, что вор к ним лезет, встали с постелек, да только дрожат от страху... Ну, а мы, знашь, и в комнату: "Здравствуйте, мол, барышни! Каково поживаете, каково прижимаете! ну, и мы тоже, мол, слава богу, век живем, хлеб жуем!" А они, сердешные, встали на коленки да только ровно крестятся: умирать-то, вишь, больно не хочется... Ну, это точно, что мы им богу помолиться дали, да опосля и прикончили разом обеих... даже не пикнули-с!
Он оглядел нас торжествующим взглядом.
-- Только надули-с! как ни бился искамши, -- больше пяти целковых во всем дому не нашел-с!
АРИНУШКА
Идет-идет Аринушка, идет полем чистыим, идет дорогой большою-торною, идет и проселочком, идет лесом дремучиим, идет топью глубокою, глубокою неисходною, идет и по снегу рыхлому, и по льду звончатому, идет-идет не охает...
Свищут ей ветры прямо в лицо, дуют буйные сзаду и спереду... Идет Аринушка, не шатается, лопотинка [Лопотинка -- одежда. (Прим. Салтыкова-Щедрина.)] у ней развевается, лопотинка старая-ветхая, ветром подбитая, нищетою пошитая... Свищут ей ветры: ходи, Аринушка, ходи, божья рабынька, не ленися, с убожеством своим обживися; глянь, кругом добрые люди живут, живут ни тошно, ни красно, а хлеб жуют не напрасно...
Журчат Аринушке ручьи весенние, весенние ручьи непорочные, чистые: жалко нам тебя, божья старушенька! лопотиночка у тебя -- решето дырявое, ноженьки худые, иззяблые; обмолола их гололедь строгая, призастыла на них кровинка горячая...
И все идет Аринушка...
Видит она: впереде у ней Иерусалим-град стоит; стоит град за морями синиими, за туманами великиими, за лесами дремучиими, за горами высокиими. И первая гора -- Арарат-гора, а вторая гора -- Фавор-гора, а третья-то гора -- место лобное... А за ними стоит Иерусалим-град велик-пригож; много в нем всякого богачества, много настроено храмов божиих, храмов божиих християнскиих; турка пройдет -- крест сотворит, кизилбаш пройдет -- храму кланяется.
"Ты скажи мне-ка, куку-кукушенька, ты поведай мне-ка, божья птахонька! уж когда же я до свят-града доиду-доплетусь, у престола у спасова отдохну-помолюсь: ты услышь, господине, мое воздыханьице, уврачуй, спасе, мои ноженьки, уврачуй мою бедну головоньку!"
Промеж всех церквей один храм стоит, в тыим храме златкован престол стоит, престол стоит всему миру красота, престол християнским душам радование, престол -- злым жидовем сухота. Столбы у престола высокие кованые, изумрудами, яхонтами изукрашенные... на престоле сам спас Христос истинный сидит.
"Ты почто, раба, жизнью печалуешься? Ты воспомни, раба, господина твоего, господина твоего самого Христа спаса истинного! как пречистые руце его гвоздями пробивали, как честные нозе его к кипаристу-древу пригвождали, тернов венец на главу надевали, как святую его кровь злы жидове пролияли... Ты воспомни, раба, и не печалуйся; иди с миром, кресту потрудися; дойдешь до креста кипарисного, обретешь тамо обители райские; возьмут тебя, рабу, за руки ангели чистые, возьмут рабу, понесут на лоно Авраамлее..."
"Ты скажи мне-ка, куку-кукушенька, ты поведай мне-ка, божья птахонька, божья птахонька-птичка вещая! Сколь идти мне еще до честного деревца, честна дерева -- кипариста-креста? Отдохнут ли тогда мои ноженьки, понесут ли меня ангели чистые на лоно светлое Авраамлее!.."
Идет-идет Аринушка; идет полем чистыим, идет дорогой большой-торною, идет и проселочном; идет лесом дремучиим, идет топью глубокою; идет, клюкою помахивает, иззяблыми ноженьками по льду постукивает...
"Было это, братец ты мой, по весне дело; на селе у нас праздник был большой; только пришла она, стала посередь самого села, мычит: "ба" да "ба" -- и вся недолга. Сидел я в ту пору у себя в избе у самого окошечка; гляжу, баба посередь дороги ревмя ревет.
-- Глянь-ко, -- говорю жене, -- глянь, Василиса, некак ведь баба-то ревет?
-- А и то, говорит, ревет! Подь, мол, сюда, подь, баунька! подь, корочку подадим! иззябла, чай, любезненькая!
Подошла она к окошечку, взяла пирога кусок, а сама вся дрожжит словно: вешняком-то ее, знать, прохватило оченно. Дрожжит, и ни шагу тоись ступить нету ей моченьки.
-- Что ж, мол, -- говорит Василиса, -- нечем тебе на морозе-то холодеть, ин милости просим к нашему хозяину.
Пришла она в избу, уселась в угол и знай зубами стучит да себе под нос чего-то бормочет, а чего бормочет, и господь ее ведает. Ноженьки у ней словно вот изорваны, все в крове, а лопотинка так и сказать страсти! -- где лоскуток, где два! и как она это совсем не измерзла -- подивились мы тутотка с бабой. Василиса же у меня, сам знаешь, бабонька милосердая; смотрит на нее, на убогую, да только убивается.
-- Откуда шагаешь, касатка? -- спрашиваю я.
-- С Воргушина, -- говорит.
-- Ну что, мол, как ваша барынька тамотки перевертывается?
А барыня ихняя не взаправду была барыня, а Немцова, слышь, жена управителя. И слух был про нее такой, что эку бабу охаверную да наругательницу днем с огнем поищи -- не сыщешь. Разогнала она народ весь, кормить не кормит, а работы до истомы всякой -- с утра раннего до вечера позднего рук не покладывай: известно, не свои животы, а господские!
Только как напомнил я ей про барыню, так ее словно задИрьгало всю; берется поскорее опять за клюку, мычит чего-то и шагает, знашь, вон из избы.
-- Куда же ты, баушка? -- говорит Василиса.
А она знай шагает и на нас не смотрит, ровно как, братец ты мой, в тумане у ней головушка ходит. Только взялась она за дверь, да отворить-то ее и не переможет... Сунулась было моя баба к ней, а она тут же к ногам-то к ее и свалилася, а сама все мычит "пора" да "пора", да барыню, слышь, поминает... эка оказия!
-- А подико-сь, Нилушко, положи ее на печку! -- говорит моя баба, -- ишь божья старушенька: инно перемерзла вся.
Положить-то я ее на печку положил, а сам так и трясусь. Вот, думаю, кака над нам беда стряслась; поди, чай, сотской давно запах носом чует да во стан лыжи навастривает... Добро как оживет убогая, а не оживет -- ну, и плачь тутотка с нею за свою за добродетель. Думаю я это, а хозяйка моя смотрит на меня, словно в мыслях моих угадывает.
-- Перекрестись, -- говорит, -- Нилушко! некак ты чего-то задумал! Ты бы лучше вот приголубил ее, сиротинушку: душа-то ведь в ней християнская! а ты, заместо того, и не знай чего задумал!
-- Ну, -- говорю, -- баба! ин быть по-твоему! а все, говорю, пойтить надо к соседу (Влас старик у нас в соседах жил, тоже мужичок смиренный, боязливый): может, он и наставит нас уму-разуму.
-- Подь, подь к Власу, голубчик!
Иду я к Власу, а сам дорогой все думаю: господи ты боже наш! что же это такое с нам будет, коли да не оживет она? Господи! что же, мол, это будет! ведь засудят меня на смерть, в остроге живьем, чать, загибнешь: зачем, дескать, мертвое тело в избе держал! Ин вынести ее за околицу в поле -- все полегче, как целым-то миром перед начальством в ответе будем.
-- Дедушко Влас! а дедушко Влас!
-- Здорово, -- говорит, -- али у тебя в дому-то что попритчилось?
-- А что?
-- Да так, мол; на тебе, мотри, ровно лица нетути.
-- А и то, дедушко, ведь попритчилось.
-- Что таково?
-- Подь к нам, сам увидишь.
Пришел дедушко, и повел я его прямо на печь: мотри, мол, како детище бог для праздника дал.
-- Ой! да это некак, говорит, Оринушка! да, слышь ты, она некак уж и дыхать-то перестала... Как же она это, паренек, на печку-то взлезла?
-- Коли бы взлезла! сам встащил...
Стал я ему сказывать сызначала до конца что и как.
-- Ну, говорю, выручай, дедушко.
-- Жалко мне тебя, паренек! парень ты добрый, душа в тебе християнская, а поди каку сам над собой беду состроил! Чай, теперь и себя в полон отдай, так и то тутотка добром от начальников не отъедешь.
-- Что ж, по-твоему, загубить, что ли, християнскую душу? -- завопила на него Василиса, -- старик ты, дедушко, старый, а каки речи говоришь!
-- Стар-то я стар, больно уж стар, оттого, мол, и речи таки говорю... Ну, Нилушко, делай, как тебе разум указывает, а от меня вам совет такой: как станут на дворе сумеречки, вынесите вы эту Оринушку полегоньку за околицу... все одно преставляться-то ей, что здесь, что в поле...
-- Слышишь, -- говорю бабе, -- слышишь, что старики говорят!
В это время застонала наша гостья на печке. Бросился я к ней, да и думаю: "Только бы ты, баунька, до сумеречен дожила, а там умирай, как тебе надобно".
-- Да кто же такая она, эта Оринушка, на нас наслалась? -- спрашивает моя баба.
-- А Христос ее знает! Бает, с Воргушина, от немки от управительши по миру ходит! Летось она и ко мне эк-ту наслалась: "Пусти, говорит, родименькой, переночевать". Ну, и порассказала же она мне про ихние распорядки! Хошь она и в ту пору на язык-от не шустра была, а наслушался я.
-- А что?
-- Да так-то истомно у них житье, что и сказать страсти! Ровно не християнский народ эти немцы! Не что уж дворовые -- этот народ точно что озорливый, -- а и мужички-то у них словно в заключенье на месячине сидят: "Этак-ту, говорит, будет для меня сподрушнее..." Ишь, подлец, скотину каку для себя сыскал!
-- И-и, как, чай, мужички-то его ругают!
-- Коли не ругаться! ругаться-то ругают, а не что станешь с ним делать! А по правде, пожалуй, и народ-от напоследях неочеслив становиться стал! "Мне-ка, говорит, чего надобе, я, мол, весь тут как есть -- хочь с кашей меня ешь, хочь со щами хлебай..." А уж хозяйка у эвтого у управителя, так, кажется, зверя всякого лютого лютее. Зазевает это на бабу, так ровно, прости господи, черти за горло душат, даже обеспамятеет со злости!
-- Да ты разве видел ее, дедушко?
-- Видел. Года два назад масло у них покупал, так всего туточка насмотрелся. На моих глазах это было: облютела она на эту самую на Оринушку... Ну, точно, баба, она ни в какую работу не подходящая, по той причине, что убогая -- раз, да и разумом бог изобидел -- два, а все же християнский живот, не скотина же... Так она таскала-таскала ее за косы, инно жалость меня взяла.
-- Да чего ж муж-от глядит?
-- А ему что! Он в эвто дело и входить не хочет! Это, говорит, дело женское; я ей всех баб и девок препоручил; с меня, мол, и того будет, что и об мужиков все руки обшаркал... право! така затейная немчура...
-- Да чего ж господа-то воргушинские на него смотрят?
-- А что господа? Господа-то у них, может, и добрые, да далече живут, слышь. На селе-то их лет, поди, уж двадцать не чуть; ну, и прокуратит немец, как ему желается. Года три назад, бают, ходили мужики жалобиться, и господа вызывали тоже немца -- господа, нече сказать, добрые! -- да коли же этака выжига виновата будет! Насказал, поди, с три короба: и разбойники-то мужики, и нерадивцы-то! А кто, как не он, их разбойниками сделал?
-- А разве и вправду разбойники?
-- Есть тако дело. Двадцать лет назад эта вотчина изо всех вотчин первейшая была, ну а теперь точно... Таки даже душегубы сделались, что и проезжать мимо ихней деревни опасно. А все этот управитель!
-- Да управитель-то тут при чем?
-- А как бы тебе это в толк дать, бабонька! Оно точно, что он словно ни при чем тут, а как вот хошь бы и тебя, примерно, ноне муж потаскал да завтра потаскал, так и тебе бы, чай, тасканцы-то приелись... Так вот и они ко всему пригляделись, да таки ли звери сделались, что прости господи! Велит ему управитель за вину сотню, что ли, отсчитать, так наказчик-то уж от себя норовит полсотни всыпать! Кровь-то у них заместо удовольствия сделалась -- своего даже брата не жалко... Варвар же ведь и мужик, как его разожгут -- что твой зверь!..
-- Ну, а за что же они в ту пору Оринушку-то измучивали?
-- А вот видишь, положенье у них такое есть, что всяка душа свою тоись тяготу нести должна; ну, а Оринушка каку тяготу нести может -- сам видишь! Вот и удумали они с мужем-то, чтоб пущать ее в мир; обрядили ее, знашь, сумой, да от понедельника до понедельника и ходи собирай куски, а в понедельник беспременно домой приди и отдай, чего насобирала. Как не против указанного насобирает -- ну, и тасканцы.
-- Эко, подумаешь, бывают же на свете злодеи! Ну, а как же ты, дедушко, одумал: как же нам с ней-то быть, чтобы в ответ моему мужику не попастись?
-- Я тебе сказывал уж, бабонька, что надо ее сумеречками полегоньку за околицу вынести, а по прочему как хотите! Мне-ка что тут! я для вас же уму-разуму вас учу, чтоб вреды вам какой от эвтова дела не было... Мотри, брат Нил, кабы розыску какого не случилось, -- не рад будешь и добродетели своей.
Уж на что была мягка моя баба, а урезонилась, "Ин быть, говорит, дедушко, по-твоему"- А гостья-то знай на печке стонет.
-- А что, тетонька? -- говорит Василиса, -- тошно, что ли, тебе испить хочется? Али пирожка дать поести?
А она все стонет. Дала ей баба воды испить; полежала она с часочек, ну, и вздохнула словно маленько.
-- Что, тетонька, али полегше стало?
Вдруг она, знашь, взговорила, да так-то внятно, словно совсем у ней отлегло.
-- А что, -- говорит, -- до Ерусалим-града далече отсель будет?
-- Что ты! Христос с тобой, тетонька. Какой такой Ерусалим-град, мы и не слыхивали!
-- А Ерусалим-град Христов, -- говорит, -- мне сегодни повечеру беспременно поспеть туда надоть.
И опять на печке растянулась и обеспамятела. Губы-то у ней шевелятся, а чего она ими бормочет -- не сообразишь! То Ерусалим опять называет, то управительшу поминает, то "Христа ради!" закричит, и так, братец ты мой, жалостно, что у меня с бабой ровно под сердце что подступило.
-- Ну, -- говорю, -- Василисушка, видно, кончается.
-- А и то кончается, -- говорит.
Помыкалась она, раба божия, таким родом с полчасика и замолчала совсем. Полез я к ней на печку -- не дышит... Ну, пропала, думаю, моя головушка!
-- А что, -- говорю, -- Василиса, -- ин и взаправду старуха-то совсем замерла!
И говорю это, знашь, не то чтобы громко, а потихоньку, словно чудится мне, что за дверью кто-нибудь меня слухает! Говорю, а у самого сердие-то так и дрожжит в груде. Поставила Василиса свечку к образу, начала над старухой молитвы читать, а мне ровно не до того. И жалко-то мне и зло-то меня берет, а пуще зло. "Вот, думаю, занесли-те лешие!" И опять же и то думаю, что зачем старуху убогую обижать,.. Сижу, слышь, на лавке, а перед глазами-то у меня и становой мерещится, и острог, и всякая напасть. Пошел опять к дедушке Власу.
-- Что, -- говорю, -- никак померла, дедушко!
-- Ну, царство небесное, -- говорит, -- много убогая кресту потрудилася!
-- Как же, мол, теперь мне быть-то с ней?
-- А снеси, как сказывал, на гумно! На лбу-то у ней не написано, где она спала-ночевала! Заблудилась, да и вся недолга...
Пришел опять домой; жена обедать сбирает.
-- Ну тебя, -- говорю, -- до обедов ли мне теперя! Ты мне-ка эту петлю на шею навязала!
-- Бога ты не боишься, Нил Федотыч! -- говорит баба, -- божью тварь призрел-обогрел, а поди-ка ругаешься, словно на большую дорогу на разбой ходил!
Пришли это сумеречки; изладил я санишки; обвязали мы бауньку вожжами, чтоб не болталась, и тронулся я с нею в поле. Бегу, знашь, с санишками-то, а сам все оглядываюсь. И что я в это время муки принял -- рассказать не умею. Из кажного словно окошечка голова выглядывает, даже месяц сверху светит, и тот будто смотрит: что, дескать, ты, злодей, делаешь!.. Сапожнишки-то я загодя скинул, в однех портянках пошел -- и те скрипят, проклятые, словно звон по улице раздается. Бегу я это и не думаю ничего; все это одна у меня в голове дума: "Куда же, мол, это поле запропастилося! было, кажется, рукой подать, а теперь вот словно час бегу -- не добегу, да и полно"... Однако прибежал-таки к гуменникам, свалил свою ношу и драло домой...
Сижу я дома, а меня словно лихоманка ломает: то озноб, то жарынь всего прошибает; то зуб с зубом сомкнуть не могу, то весь так и горю горма. Целую ночь надо мной баба промаялась, ни-ни, ни одной минуточки не сыпал. На другой день, раным-ранехонько, шасть ко мне дядя Федот в избу.
-- Слышал? -- говорит.
-- Нет, мол, не слыхал.
-- У Куземки тело, говорит, по-за гумном оказалося.
-- Ой ли? -- говорю, а самого так и ломит лихоманка.
-- Да, -- говорит, -- тело; сотский уж к становому угнал; да что ты словно трясешься весь?
-- Да что, -- говорю, -- лихоманка всего истрепала: и то за всю ночь ни на минутую не сыпЮл... Да како же, мол, тако тело, Потапыч, оказалося?
-- А старушонка кака-то, Христос ее знает! Воргушинская, сказывают робята. Только вот что чудно, парень, что лежит она, а руки-ноги у ней вожжами перевязаны... Уж мы и то хотели развязать ее да посмотреть, чьи вожжи, да сотский не пускает: до станового нельзя, говорит.
А я, знашь, в ту пору, как ее бросил на гуменнике, и развязать-то второпях позабыл... Гляжу, к обеду и становой прикатил; поволокли нас всех туда миром; сняли с нее вожжи, со старухи.
-- А чьи это вожжи, ребята? -- спрашивает становой, -- не признаете ли?
Посмотрели робята на вожжи, посмотрели на меня.
-- Нилкины вожжи, -- говорят.
Я было в запирательство -- так куда! Тот же Потапыч дохнуть не дал.
-- Нет, брат, это, -- говорит, -- уж дело не следственное, чтоб кашу наварить, да потом на мир сваливать.
Подумал-подумал я; вижу, точно мои вожжи; ну, и мир, знашь, лаяться на меня зачал: вспомнили туточки, что какая-то старуха накануне по селу шаталась, что она и в избу-то ко мне заходила -- как тут запрешься?
....................
Да вот с той поры и сижу, братец ты мой, в эвтим месте, в остроге каменном, за решетками за железными, живу-поживаючи, хлеб-соль поедаючи, о грехах своих размышляючи... А веселое, брат, наше житье -- право-ну!"
КАЗУСНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
СТАРЕЦ
"Я старец. Старцем я прозываюсь потому, первое, что греховную суету оставил и удалился в пустынножительство, а второе потому, что в писании божественном искуснее, нечем прочие християне. Прочие християне в темноте ходят, бога только по имени знают; спросишь его "какой ты веры?" -- он тебе отвечает "старой", а почему "старой" и в чем она состоит, для него это дело темное.
Родители мои исстари "християне" были; лет около сотни будет назад, еще дедушка мой бежал из Великой России и поселился в Пермской губернии на железном заводе. Жалко, сказывают, было ему с родной стороной расставаться! Известно, там наши родители в землю легли; там вся наша святыня; там гробы чудотворцев, гробы благоверных князей российских и первосвятителей православной церкви... Кому неволя от таких святых мест идти в сторону глухую, незнаемую, дикую! Стало быть, теснота была велика, коли уж перемочь было не можно.
Бежали они в те поры целыми селеньями, кто в Поморье, кто в Сибирский край. Однако хошь и дикая была эта сторона, а точно господня благодать осенила ее. Всего было довольно: и зверя лесного, и рыбы всякой, и угодий -- ни в чем нужды мы не видели. А всего пуще общение и дружба между селянами была. Еще на моей памяти жили мы тут словно в райских обителях. Не было ни раздору, ни соблазну, ни пьянства; кабак и другие там заведения пошли только в недавных годах. Ну, и подлинно: не сломила сила, не сломило слово, а кабак сломил -- это точно. Кои селенья богаты были, в тех теперь словно разоренье прошло: всё в кабак снесли.
Помню я свое детство, помню и родителя, мужа честна и праведна; жил он лет с семьдесят, жил чисто, как младенец, мухи не изобидел и многая возлюбил... Теперь он видит лицо создателя и молится за нас, грешных. Памятен он мне так, словно сейчас его вижу: седой и строгий, а в глазах кротость и благость господня. Как вы хотите рассудите, ваше благородие, а какая-нибудь причина тому есть, что между "мирскими" таких стариков не бывает. Весь он будто святой, и всяк, кто его видит, поневоле перед ним шапку снимет и поклонится... Почтенный был старик!
Сердце у меня сызмальства уже к богу лежало. Как стал себя помнить, как грамоте обучился, только о святом деле и помышление в уме было. Начитаешься, бывало, на ночь, какие святии отцы мучения претерпевали, какие подвиги совершали, на сердце ровно сладость какая прольется: точно вот плывешь или вверх уносишься. И уснешь-то, так и во сне-то видишь все, как они, наши заступники, в лютых мучениях имя божие прославляли и на мучителей своих божеское милосердие призывали. А другой раз случалось и так, что голова словно в огне горит, ничего кругом не видишь, и все будто неповинная кровь перед тобою льется, и кроткие речи в ушах слышатся, а в углу будто сам Деоклитиян-царь сидит, и вид у него звероподобный, суровый.
Еще тогда, сколь припомню, только об том и думалось, чтоб в пустынножительстве спасение найти, чтоб уподобиться древним отцам пустынникам, которые суету мирскую хуже нечем мучения адовы для себя почитали... Ну, и привел бог в пустыню, да только не так, как думалось.
Лет за пятнадцать до смерти принял родитель иночество от некоего старца Агафангела, приходившего к нам из стародубских монастырей. С этих пор он ничем уж не занимался и весь посвятил себя богу, а домом и всем хозяйством заправляла старуха мать, которую он и называл "посестрией". Помню я множество странников, посещавших наш дом: и невесть откуда приходили они! и из Стародуба, и с Иргиза, и с Керженца, даже до Афона доходили иные; и всех-то отец принимал, всех чествовал и отпускал с милостыней.
Между христианами в то время большое смятение было; не только от мирских гоненье терпели, а и промеж себя все были раздоры да неурядицы; кто хотел священства, а кто его и вовсе отвергал [Любопытствующих узнать более подробные сведения об этих смутах отсылаем к сочинению протоиерея Андрея Иоаннова: "Полное историческое известие о древних стригольниках" и пр., а также к "Истории русского раскола" преосвященного Макария, епископа винницкого. (Прим. Салтыкова-Щедрина.)]. Родителя моего это сильно печалило. Беспрестанно получали мы письма и послания то от той, то от другой стороны, и всяк уговаривал не слушать противника, у всякого противник супостатом и отщепенцем св. Церкви назывался. Странники, бывшие на Москве, тоже немного хорошего пересказывали: там, на этих соборах, доходило чуть не до убивства.
Горько сделалось родителю; своими глазами сколько раз я видал, как он целые дни молился и плакал. Наконец он решился сам идти в Москву. Только бог не допустил его до этого; отъехал он не больше как верст сто и заболел. Вам, ваше благородие, оно, может, неправдой покажется, что вот простой мужик в такое большое дело все свое, можно сказать, сердце положил. Однако это так.
Дали нам знать, что родитель умирает. Приехали мы с матушкой в Ножовку (село такое есть), где он лежал у одного старинного благоприятеля; приехали, а у него уж и руки и ноги отнялись. Принял он, сударь, и схиму, перед кончиной, по той причине, что перед лицо божие похотел предстать в ангельском всеоружии; об одном только жалел, что не сподобил его бог мученический венец восприять, что вот он на свободе преставляется, а не в узах и не в тесноте. Смекаю, что он затем больше и в путь отправлялся, что чаял за Христа душу положить.
Умер он в полной памяти и светлом разуме, с молитвой и благословением... Это-то самое воспоминание, об его, то есть, тихой и праведной смерти, еще более утвердило меня. Может ли статься, думал я, чтобы наше дело было неправое, когда вот родитель уж на что был большого разума старик, а и тот не отступился от своей старины: как жил в ней, так и умер. К тому же и такая была у меня мысль, что перед смертью кажный человек сокровенным ведением просвещается; стало быть, если б совесть его была чем ни на есть замарана, зачем же бы ему не примириться с ней перед смертью: там ведь не человеческий суд, а божий!
Случился в это самое время в Ножовке заседатель. Как ни секретно мы свое дело устраивали, однако он пронюхал, что вот, дескать, помер старик без покаяния; пришел к нам в дом.
-- От какой, -- говорит, -- причины помер здесь старик, да и чтой-то за старик таков? давайте, -- говорит, -- мне его вид.
А вида у отца точно что никакого не было, по той причине, что пашпорт считал он делом сугубо греховным. У нас насчет этого такой разговор был, что пашпорт ли, печать ли антихристова -- все это едино. Есть книга такая, Трифология прозывается, и в ней именно наказано: "Опасатися трех вещей: звериного образа, карточек и наипаче всего душепагубные печати". Опять-таки и Зиновий мних на вопрос: "Которыми вещьми хощет увязати человеком ум сопротивник божий?" -- прямо отвечает: "Повелит творити некая письмена на карточках, с тайным именем, да не могу без тех в путь шествовать". Ну, и выходит, что карточки пашпорт и есть.
Однако заседатель всего этого разговору не понимает. "Мне, говорит, подавай пашпорт".
-- Да где ж его возьмешь, коли нетути? -- говорим мы ему.
-- Так нет, стало, пашпорта? -- ладно; это пункт первый. А теперь, -- говорит, -- будет пункт второй: кто бишь из вас старика, отравил? и в каких это законах написано, чтоб смел человек умереть без напутствия?
Мы так, сударь, и помертвели все.
-- Да, -- говорит, -- это надлежит дело исследовать, потому что и законами не повелено без напутствия умирать!
А сам, знашь, подошел к мертвому-то, да еще надругаться над ним норовит. Я в те поры еще молоденек был; кровь-то во мне играла -- ну, и обидно мне это показалось.
-- А что, -- говорю, -- много жалованья, ваше благородие, получаешь за то, чтоб над праведником надругаться?
Так он только засмеялся, антихрист, да в щеку мне легонько потрафил.
Истрясли мы в ту пору рублей больше тысячи на тогдашние еще деньги, и схоронили-таки родителя по своему обычаю. Однако с этих пор словно знобит у меня все нутро, как увижу полицейского: так и представляется мне покойник, как он его резать и потрошить хотел.
Остался я после отца по двадцатому году; ни братьев, ни сестер не было: один как перст с матушкой. Года были подходящие; матушка стала стара; хозяйство в расстрой пошло... вот и стала ко мне приставать старуха: женись да женись.
Конечно, сударь, и отец и дед мой, все были люди семьянистые, женатые; стало быть, нет тут греха. Да и бог сказал: "Не добро быти единому человеку". А все-таки какая-нибудь причина тому есть, что писание, коли порицает какую ни на есть вещь или установление или деяние, не сравнит их с мужем непотребным, а все с девкой жидовкой, с женой скверной. Да и Адам не сам собой в грехопадение впал, а все через Евву. Оно и выходит, что баба всему будто на земле злу причина и корень.
К тому же и отец, на смертном одре, не больно желал, чтоб я осемьянился, даже матери наказывал, чтоб она меня к этому делу не нудила. Припомнил я это старухе -- так куда? и святых-то всех помянула, и отца перетревожила: такая уж их бабья природа. "Он, говорит, и жив-то был, так ровно его не было, только слава, что муж, а умер -- одно разоренье оставил". А то и забыла, что и дом, и все, что в нем ни было, все трудов отцовских дело. Крепился я года с три, однако она меня одолела. Как с утра да до ночи к тебе пристают, так и невесть чего сделаешь.
Вот я и женился. Жила у нас на селе девка не девка, вдова не вдова, а так женщина сумнительная. Словно диво сталось какое, полюбилась она моей старухе. Слух у нас был, будто она с старцами дружбу водит, которые неподалеку от нас в лесах спасались; старцы были всё молодые да здоровенные, зачастую к нам на село за подаяньем прихаживали, и всё, бывало, у ней становятся. Стал я говорить про это матери, так и то все прахом пошло: "Что ж, говорит, разве старцы люди простые? от них, окромя благодати, ничего и быть-то не может". Ну, и обвенчали нас, обвенчали в церкви. Я. было хотел, чтоб дело просто сталось, по родительскому, то есть, благословению, по той причине, что и учители наши сказывают: "Не в том-де замыкается сила тайны брака, чтоб через попа оную отправить"; [См. Известие о стригольниках и пр., соч. Андрея Иоаннова. Изд. 5-е, ч. II, стр. 36. (Прим. Салтыкова-Щедрина )] однако и тут мать-старуха не допустила. Это, говорит, ты хочешь, чтоб меня засудили на старости лет; мало, что ли, я в те поры с покойничком денег истрясла?
Оно и точно, ваше благородие, тяжкие времена тогда были. От самой, то есть, утробы материнской и до самой смерти земская полиция неотступно за нами следила. Как пастырь верный и никогда не спящий, стерегла она стадо наше и получала от того для себя утеху великую. Первая была мзда за нехождение, вторая за сожительство, третья за неокрещение, четвертая за погребение не по чину. Удивляешься нынче, как на все это их ставало, откуда деньги у стариков брались. И не то чтоб помаленьку, по-християнски брали -- отчего ж и не взять бедному человеку, коли случай есть? -- нет, норовит, знашь, с маху ограбить вконец. Бывали случаи, как поважнее дело -- вот хошь бы насчет совращенья, -- так в доме-то после полиции словно после погрому.
Ну, и подлинно повенчали нас в церкви; оно, конечно, поп посолонь венчал -- так у нас и уговор был -- а все-таки я свое начало исполнил: воротился домой, семь земных поклонов положил и прощенья у всех испросил: "Простите, мол, святии отцы и братья, яко по нужде аз грешный в еретической церкви повенчался" [Там же. (Прим. Салтыкова-Щедрина.)]. Были тут наши старцы; они с меня духом этот грех сняли.
Не долго мы пожили в согласии. Первое дело, что брань промеж баб пошла, а второе дело -- эти старцы больно уж одолевать меня зачали. Кажный-то день всё они к нам да к нам, и пошло у них это бражничанье да хлебосольство, словно кабак какой у нас в доме завелся. Старуха мать только сидит да плачет, а я... мне, сударь, полюбилась такая жизнь. Соберемся мы, бывало, в кружок, поставит нам жена браги, и пошел разговор, старцы эти были народ хошь не больно грамотный, однако из этих цветников да азбуков понабрались кой-чего; сидит себе, знай пьет, да кажный глоток изречением из святого писания будто закусывает, особливо один -- отцом Никитой прозывался. Стал я в ту пору и хмелем зашибаться; понимал я, конечно, что это дело нехристиянское, да удержаться никак не возможно: так и тянет и тянет в этот разврат.
Таким-то родом пропили мы и последние денежки. Думал я, думал, куда девать мне свою головушку, и решился наконец. Решился я, сударь, идти в поверенные на винный завод. Владелец его знавал еще нашего родителя, и хочь, может, доходили до него слухи, что сын не в отца пошел, однако принял меня и жалованье большое положил. Не дошел бы я, сударь, до этой крайности: лучше бы с голоду умер, чем в экое поганое место служить идти, да жена и тут сомустила. "Что ж, говорит, разве ты тут при чем-нибудь будешь? Их, мол, дело особь статья, а твое особь статья: вот кабы твой завод был, это точно что грех, а то и родитель твой с ними дела имел, не гнушался". Ну, и старцы тоже приговорили, что ничего закону противного нет; только старуха мать ровно по покойнике голосила, как я на завод отправлялся.
В заводе этом пробыл я лет восемь; какую жизнь я тем временем вел, даже вспомнить стыдно. Довольно сказать, что по постным дням скоромное ел, водку пил, табачище курил! И где-где не перебывал я в эти восемь лет! И в Астрахани, и в Архангельском, всю Россию почесть вдоль и поперек изъездил. Подивился я, барин, в ту пору, что такое есть Русское царство! Куда ни приедешь, все новый обычай, новая речь, даже одежа новая. Много узнал я слез, много нужды, много печали, и, однако, все это будто мимо меня прошло. Нажил я денежек, поприсмотрелся кой к чему и сам стал поторговывать, сначала исподволь, а потом все больше да шире. Торговал я, знаете, книжками, лестовками да образками, а какая это была торговля -- одному богу известно. Овладел мною дух неправды и любостяжания; стал я обманывать, бедный народ притеснять, свою братию продавать, от християнства отказываться -- все в чаянье приобретенья благ земных.
И ведь чудо! не поразил же меня в то время господь, как пса смрадного, когда я невесть до какого кощунства доходил. Обман, сударь, конечно, дело простое, потому как на нем у нас, пожалуй, весь торговый промысел состоит, да я-то ведь на чем обманывал? Я ведь именем Христовым, можно сказать, торговал! Особливо есть у нас, в нашем быту, собраньица такие рукописные -- цветнички прозываются -- там, знаете, изо всех книг собрано, что нам на потребу. Эти тетрадки самый для нас выгодный промысел; покупает их народ больше неграмотный, которому и невесть чего тут наскажешь: вот он, наслушавшись-то, и точно готов на стену лезти.
Помощник был у меня на все такие дела предошлый. Прозывался он по-простому Андрияшкой, и как бы вам сказать, не ошибиться, за полтину серебра душу свою готов был на всякое дело продать. Где и в каких он делах не бывал, этого я вам и объяснить не умею: довольно сказать, что у комедиянтов подсказчиком был... изволите знать, что по городам комедиянты бывают. Он и стихи слагать умел, особливо про пустынножительство или вот насчет антихристова пришествия. Одно слово, остроумный, живой парень был. Конечно, промеж нас-то он будто заместо шута состоял, а в темном народе тоже свою ролю разыгрывал. Часто самому мне случалось слышать, как его величали "горняго жития ревнителем", ну, и он ничего, даже глазом не моргнет. Так вот этакой-то проходимец и вызвался быть моим помощником. И точно: подделать ли что под старый манер, рассказать ли так, чтоб простой человек уши развесил, -- на все на это у него такой талант был, что, кажется, если бы да на хорошую дорогу его поставить, озолотил бы, не расстался бы с ним.
Как пошла у меня эта торговля, я и место бросил. Слухом земля полнится; стали и на Москве знать, что есть-де такой-то ревнитель; ну, и засылать ко мне зачали. Получаю я однажды писемцо, от одного купца из Москвы (богатейший был и всему нашему делу голова), пишет, что, мол, так и так, известился он о моих добродетелях, что от бога я светлым разумом наделен, так не заблагорассудится ли мне взять на свое попечение утверждение старой веры в Крутогорской губернии, в которой "християне" претерпевают якобы тесноту и истязание великое. А средством к утверждению предлагалось открытие постоялого двора, в котором могли бы иметь пристанище все "християне". Ну, разумеется, и деньги на обзаведение тут же посулил, десять тысяч рублев на бумажки... "А мы, говорит, богу произволящу, надеемся в скором времени и пастыря себе добыть доброго, который бы мог и попов ставить, и стадо пасти духовное: так если, мол, пастырь этот к вам обратится когда, так вы его, имени Христова ради, руководствуйте, а нас, худых, в молитвах пред богом не забывайте, а мы за вас и за всех православных християн молимся и напредь молиться готовы".
Ну, что ж, думаю, это дело хорошее. Поехал в Крутогорск, взял с собой Андрияшку, снюхался там с кем следует и открыл въезжий двор. Крутогорская эта сторона, доложу я вам, сплошь населена нашим братом; только все это там у них, с позволения сказать, какая-то тарабарщина. От дикости ли это ихней, а только что ни деревня у них, то толк новый, даже в одном и том же селенье по нескольку бывает. Одни на воду веруют; соберутся, знашь, в избе, поставят посреди чан с водой и стоят вокруг, доколе вода не замутится; другие девку нагую в подполье запирают, да потом ей кланяются; третьи говорят "Несогрешивый спасенья не имет", -- и стараются по этой причине как возможно больше греха на душу принять, чтоб потом было что замаливать. Есть даже такие изуверы, что голодом себя измаривают, только ноне этих стало мене заметно.
Надлежало, стало быть, всех этих разнотолков в одно согласить, и задача трудненька-таки была. Писал я об этом в Москву к своему благодетелю, так он отвечал, что это ничего, лишь бы были все "християне". Ну, я так и действовал.
Конечно, сударь, как теперь рассудить, так оно точно выходит, что в этих делах много сумнительного бывает. На этот счет, доложу я вам, трех сортов есть люди. Одни именно сердцем это дело понимают, и эти люди хорошие, примерно вот как родитель мой. Правы они или не правы, это статья особенная, да по крайности они веруют. И вы, барин, не подумайте, что они из-за сугубой аллилуйи или из-за перстов так убиваются. Нет, тут совсем дело другое: тут, сударь, вот антихрист примешался, тут старина родная, земство, и мало ли еще чего. Известно, Андрея Денисова ученики. Эких людей немного, а ноне, пожалуй, и совсем нет. Эти на все готовы: и смерть принять, и поругание претерпеть -- все это даже за радость себе почитают. А вот другой есть сорт, так эти именно разбойники и святотатцы. Это больше всё люди богатые или хитрые; заводят смуты не для чего другого, как из того, чтобы прибыток получить, или еще для того, чтоб честь ему была. Хуже, злее этих людей на свете нет: готов полсвета зарезать, чтоб прихоть свою исполнить. Сам он не только в старую, а, просто сказать, ни в какую веру не верует; знали бы ему только, что, мол, вот он каков: слово скажет, так четь-России этого слова слушает. Ну, и подлинно слушают, потому что народ не рассуждает; ему только скажи, что так, мол, при царе Горохе было или там что какой ни на есть папа Дармос был, которого тело было ввержено в реку Тивирь, и от этого в реке той вся рыба повымерла, -- он и верит. Это третий сорт.
И еще доложу вам, сударь, такой, примерно, предмет, что сколько вот я ни бродил по свету, сколько ни знавал "особников", а истинной, настоящей то есть любви в них не видал. Все они как есть "особники". Нет того, чтоб душу свою за ближнего положить, а пуще горло ему перегрызть готовы. Мало в них общительности, мало и радушия и милосердия. Кто больше их подает милостыни? Кто больше их жертвует на общее дело? А все как-то сразу замечаешь, что тут истинного мало, что все это: и жертва и приношения -- один хазовый конец. Конечно, есть, же какая-нибудь этому причина, что сердце в них словно зачерствело, что они на свет божий сурово глядят, а только это истинная истина, что к общению их мало тянет. Иной богатый купец тысячи бросит, чтоб прихоть свою на народе удовольствовать, а умирай у него с голоду на дворе душа християнская -- он и с места не двинется...
Дела мои шли ладно. На дворе, в бане, устроил я моленную, в которой мы по ночам и сходились; анбары навалил иконами, книжками, лестовками, всяким добром. Постояльцев во всякое время было множество, но выгоднее всех были такие, которых выгоняли в город для увещаний. Позовут их, бывало, в присутствие, стоят они там, стоят с утра раннего, а потом, глядишь, и выйдет сам секретарь.
-- А вы, мол, кто такие?
-- А мы, батюшка, вот такие-то; нельзя ли, кормилец, над нами скорее конец сделать?
-- А, -- скажет секретарь, -- ну, теперь поздно, пора водку пить, приходите завтра.
Придут и завтра; тоже постоят, и опять: "Приходите завтра". Иной раз таким-то манером с месяц томят, пока не догадаются мужички полтинничек какой-нибудь приказной крысе сунуть. Тут их в один день и окрутят -- известно, остались все непреклонны, да и вся недолга. И диво бы не остались, барин! Дома-то он один; видит ли, нет ли перед собой такого же сиволапа, как и сам, а тут придет в город, остановится, примерно, хошь у меня или у другого такого же -- и чего-чего ему в уши-то тут не нашепчут. Как из деревни-то он шел, совесть-то у него, может, шаталася, а тут, гляди, совсем другой человек сделался. "Не хочу, да не хочу!" да и полно; а почему "не хочу" -- молчит: просто, говорит, не хочу! -- что ж с ним станешь делать!
Ну, а для нас, крохоборцев, оно и хорошо. Простоят они этак с месяц -- глядишь, ан на коем тридцать, на коем сорок бумажками. А расходу для них не бог знает сколько: только за тепло да за ласку, потому что хлеб у него завсегда свой, и такой, сударь, хлеб, что нашему брату только на диво, как они его едят. Как приходится домой идти да объявишь каждому расчет, так он только вздыхает. И денег-то у него нет, и припас-от весь извел, потому что сбирался на неделю одну, а продержали месяц. Ну, мы насчет этого не прекословим; тут же и условимся, чтоб заместо денег хлебом, или медом, или холстом по ихней, то есть, цене, и доставка тоже ихняя. Это дело очень выгодное и обманов тут не бывает -- чего? еще гостинцу всякий раз присылают!
Однажды получаю я письмо от своего милостивца, что вот добыли они себе пастыря, мужа честна и добра, и что похотел он овцы своя узрети и даже наш город предположил посетить.
Вот и подлинно приехал он. Приехал ночью, с возами, будто извозчик; одет словно мещанин простой в кафтанчике и в желетке, и волосы в кружок обстрижены, и пашпорт при нем -- только чужой али фальшивый, доложить не могу. Приняли мы его с честью великою, под благословенье, как следует, подошли: только сам он словно необычно держал себя: чуть немного не по нем, он не то чтоб просто забранить, а все норовит обозвать тебя непотребно. Служил он (такая при нем церковь походная была) и за службой уставщика то и дело ругал азартно, словно не в церкви, а в кабаке он действует. Смотрел я на него, смотрел: сам вижу, словно морда у него знакомая, а припомнить не могу. Что ж, сударь, открылось? Кончил он всю эту комедию, поломался-таки перед нами досыта и остался со мной уж один на один.
-- Что ж, -- говорит, -- или не признаешь меня, Александра Петрович?
-- Нет, мол, не признаю; это точно, что сдается, будто тебя знаю, а где и когда видал -- доподлинно сказать не умею.
-- А не припомнишь ли, -- говорит, -- Степку, казанского дворника?
-- Да что ты, шутишь, что ли?
-- Нет, не шучу; вот мы теперь решим и вяжем и какое хошь таинство творим.
-- Господи ты боже мой! Так вот, мол, ты кто таков!
А знаете ли вы, сударь, кто этот Степка? В Казани он был дворником и за блудную жизнь да за воровство в некруты присужден был от общества.
Вот он и бежал; старую веру, слышь, принял, да потом нашими благоприятелями и уставлен к нам пастырем! И ума-то даже хитрого не имел, да, видно, по этой причине и полюбился нашим милостивцам, что на нем подозренья держать было нельзя; весь он был в их руках.
Только наказал же меня за него бог! После уж я узнал, что за ним шибко следили и что тот же Андрияшка-антихрист нас всех выдал. Жил я в Крутогорске во всем спокойствии и сумнения никакого не имел, по той причине, что плата от меня, кому следует, шла исправно. Сидим мы это вечером, ни об чем не думаем; только вдруг словно в ворота тук-тук. Посмотрел я в оконце, ан там уж и дом со всех сторон окружен. Обернулся, а в комнате частный. "Что, говорит, попался, мошенник!"
Только я к нему: "Помилосердуйте, говорю, ваше благородие, за что ж конфузить! Кажется, с меня и то сходит не мало, а это, мол, наш приятель; человек заезжий, и пашпорт при нем. За что его-то беспокоить".
-- Да, -- говорит, -- это точно, что от тебя приношение бывает, и мы, говорит, оченно за это тебе благодарны; да то, вишь, приношение вообще, а Степка в него не входит. Степка, стало быть, большой человек, и за этакого человека с другого три тысячи целковых взять нельзя: мало будет; ну, а тебя начальство пожаловать желает, полагает взять только три. Так ты это чувствуй; дашь -- твой Степка, не дашь -- наш Степка.
А Степка сидит в углу словно неживой. Я поначалу заупрямился было.
-- Ну, -- говорит, -- жаль мне тебя, Александра Петрович, а делать нечего -- надевай, брат, кандалы. А разоришься-то ты, все-таки разоришься...
Ну, и Андрияшка тут смеется, сосуд сатанин, словно от того ему радость сердечная, что вот благодетеля своего погубил. Бывают, сударь, экие скареды, что просто тебя из-за ничего, без всякой, то есть, выгоды загубить готовы.
Делать нечего, отдал я тут все деньги, какие через великую силу всякими неправдами накопил; он и покончил дело. Сам даже Степку при себе снарядил и со двора выпроводил: ступай, говорит, на все четыре стороны, да вперед не попадайся, а не то, не ровён час, не всякий будет такой добрый, как я.
Ну, да это все бы еще ничего. Сижу я на другой день один, будто горюю; смотрю, частный опять ко мне на двор едет: что бы это за оказия такая?
И, главное, ведь вот что обидно: они тебя, можно сказать, жизни лишают, а ты, вишь, и глазом моргнуть не моги -- ни-ни, смотри весело, чтоб у тебя и улыбочка на губах была, и приветливость в глазах играла, и закуска на столе стояла: неровно господину частному выпить пожелается. Вошел он.
-- Ну, -- говорит, -- ты теперича, пожалуй, собираться в дорогу можешь.
-- Как, -- говорю, -- собираться? куда?
-- Ну, да вот хоть туда, откуда к нам приехал. -- А дом-то как?
-- А дом продашь наЩскори: у меня уж и покупщик такой сыскался.
-- Да помилуй, ваше благородие, за что же ты три-то тысячи вчерась взял?
-- Это, -- говорит, -- не твое дело; нынче порядок такой. Мы вот начальству докладывали, что Степка, мол, неизвестно куда из дому твоего скрылся, так начальство изволит говорить: если уж так, что Степку изловить не могли, так, по крайности, чтоб духу твоего в городе не пахло: развращаешь ты весь народ.
-- Господи ты боже мой! да что ж, ограбить, что ли, вы меня, удавить, что ли, хотите?
Он, знашь, вспыхнул.
-- Как, -- говорит, -- ограбить? Кто здесь грабит?
Да ногами так и затопотал, и ручищи вперед выпятил -- знамо для чего.
-- Счастлив твой бог, -- говорит, -- что человек-то я добрый: вижу, что ты больно уж огорчен, не в своем будто уме такие дела говоришь.
Ну, и представили мне покупщика на дом, а покупщик-от Андрияшка. Выложил он мне тут же тысячу серебряных рублей, однако и те частный взял: "Ты, говорит, пожалуй, с деньгами-то здесь останешься, да опять смуту заводить станешь, а вот, говорит, тебе на дорогу двадцать целковеньких, ступай восвояси". Я было попросить хотел -- так куда? "Ты, говорит, видно брыкаться задумал, так ведь у нас дело-то еще не кончено; пожалуй, и теперь еще в казамат угомонить можно, яко пристанодержателя и развратителя -- это все в наших руках".
В ту же ночь я отправился пешком на родину, а Андрияшка и доселе в моем дому хозяйствует.
Что уж не передумал я дорогой -- этого вашему благородию и пересказать не могу. А пуще того голова у меня словно онемела; вижу, поля передо мной, снег лежит (тогда первопутка была), лес кругом, с возами мужики едут -- и все будто ничего не понимаю: что лес, что снег, что мужик -- даже различить не могу. А не то вот словно дурость найдет: все еще думается, что я богат, что скоро обедать надо, что свечи дома все вышли, что с такого-то вот рубль донять следует, а Мокея оковского и постращать не лишнее. И всякая, знаете, в голову чепуха лезет, точно сам-то не думаешь, а одни прежние остатки сами собой в тебе дорабатываются.
Пришел я домой нищ и убог. Матушка у меня давно уж померла, а жена даже не узнала меня. Что тут у нас было брани да покоров -- этого и пересказать не могу. Дома-то на меня словно на дикого зверя показывали: "Вот, мол, двадцать лет по свету шатался, смотри, какое богачество принес".
К тому же и болезнь в это время посетила меня. От огорченья, что ли, или просто от простуды -- только сделался я словно робенок, ни одним, то есть, суставом пошевелить не могу. По телу пошли струпья, и чувствовал я, будто весь живой истлеваю. Господи! чего уж я в это время не передумал, чего не перестрадал. Голова не болит, а словно перед тобой в тумане все ходит. То будто кажется, что вдруг черти тебя за язык ловят, то будто сам Ведекос на тебя смотрит и говорит тебе: "И приидут вси людие со тщанием..." В глазах у него свет и тьма, из гортани адом пышет, а на главе корона змеиная. Вся моя прежняя блудная жизнь встала передо мной, все эти грехи: и святотатство, и наругательство, и любострастие, и обманы, и кривда, и прелюбодеяние, и разбой. То будто за руку меня повесили, или вот каленым железом глаза и уста прижигают. Однажды даже вся преисподняя мне открылась: сидит Вельзевул на престоле огненном, а кругом престола слузи его хвостами помавают, а крыле у них словно у мыши летучей. Завидел он меня еще издалека и завопил: "Се грядет верный слуга наш, он нашу паству добре приумножил, примем его с честью великою". Подхватили меня тут бесы под руки и поволокли к самому престолу. Оглянулся я, сзади ровно знакомые всё лица: и точно, все тут были, которых я в свою жизнь на пагубу настроил.
Однако, сударь, случилось тут со мной чудо. Стал я выздоравливать; кровь словно отошла маленько, и хошь вставать я с печки не мог, да по крайности черти в глазах не вертелись. И вдруг, знаете, сижу я один, будто сном забывшись, и слышу, что по избе благовоние разливается: фимиам не фимиам, а такого запаху я и не слыхивал -- одно слово, по душе словно мягким прошло: так оно сладко и спокойно на тебя действует. Открыл я глаза -- это точно я помню, что открыл, -- и вижу перед собой старца, ликом чудна и облаком пресветлым озаренного. Трепет объял меня. Порывался я броситься на землю, чтобы облобызать честные нозе его, и не мог: словно тайная сила оковала все суставы мои и не допустила меня, недостойного, вкусить такого блаженства. "Господи! -- мог я только произнесть, -- грешен я, грешен я, господи!"
ЧтС со мной потом сталось, я рассказать не могу. Должно быть, больно я испужался, что и в памяти-то у меня ничего не осталось. Однако, проснувшись, ощутил себя здрава и тут же положил сбросить с себя суету греховную и удалиться в пустынножительство.
Сказывали мне странники, что такие есть места в Чердынском уезде, в самом то есть углу, где божьи люди душу свою спасают. Там по рекам: Лупье, Пильве, Лёле и Колве, в лесах дремучих, построены, дескать, кельи и в них не мало-таки народу живет. Сказывают, что даже из Москвы в те места благочестивые старцы спасаться ходят, что много там есть могил честных и начальство про то не знает и не ведает. А то вот и про другое тоже место сказывали. В Оренбургской губернии, около Златоуста, в горах, такие же пустынники обитают, и всё больше в пещерах, и одна такая пещера есть, что в ней денно и нощно свеща горит, а чьей рукой возжигается -- неизвестно. В этих, барин, пещерах люди без одежды ходят, питаются злаками земными, и даже промеж себя редко общание имеют. Ну, к этакой жизни я еще не считал себя готовым, по той причине, что спервоначала надлежало плоть в себе добре умертвить. К тому же и на места эти не все одинако указывают; один говорит: "Дойдешь до Златоуста, вороти на сивер"; другие: "От Златоуста на восход ступай". Вот и удумал я идти сперва на Лупью, а там, буду, мол, жив, постепенно душу спасать стану.
И подлинно, только начал я силами владеть, не сказал никому ни слова, взял с собою часослов древний да тулупчик и скрылся из дому, словно тать ночью.
Шел я туда с месяц места, потому что от нас будет туда верст боле шестисот. Шел я Христовым именем, словно сам он с небеси меня подкреплял на подвиг душевный. Сказали мне, что там деревнишка такая есть -- пермяки в ней живут -- оттуда, мол, всякой мальчишка тебе укажет, как пройти к пустынникам. И точно, пришел я туда, спросил только старцев, мне и проводника ту ж минуту дали, и маточкой -- такой канпасик есть крестьянский -- снабдили [Маточкой называется небольшой компас или, лучше сказать, грубо сделанная коробочка с крышкою; внутри коробки, под самою крышей, вделывается бумажный кружок, на котором означены страны света, на дне же ее прикрепляется железная шпилька, на которой вращается магнитная стрелка. Эта маточка составляет необходимую принадлежность всякого охотника между пермяками и зырянами. (Прим. Салтыкова-Щедрина.)]. Пермяки эти к старцам большое почитанье имеют, и не только сами их не трогают, а даже от полиции всячески укрывают. Причина тому, сударь, простая. У старцев и хлеб завсегда водится, и порох, и припас всякий, всего этого им довольно из окольных мест в милостыню присылают, ну, а пермяки народ бедный, хлеба у них или совсем не родится, или родится такая малость, что только по праздникам им лакомятся. Едят они совсем мало, а больше пьют; такая у них брага из овса делается: и хмельно, и питает. Хмель тем для него хорош, что словно как себя при нем забываешь, а болтушка эта мучнистая хоть и не больно сытна, а живот от нее довольно-таки пучит: ему это тоже на руку, потому что он хошь и не сыт взаправду, а все будто сыт. Одежи они тоже почти не знают; в самый сильный мороз на нем пониток из холста, только и всего. Какая же им, стало быть, причина старца тревожить, когда он от него, можно сказать, и продовольствие и промысел свой получает за то только одно, чтоб не мешать ему душу спасать?
Шли мы этак с час времени, и шли всё на лыжах, потому что простыми ногами в таких снегах и ходить невозможно. Хоть зима была уж на исходе (под благовещенье почти подходило дело), однако в тех местах снег даже не тронулся совсем. Шли мы сначала полем -- этак с версту, -- а потом пошел лес, да такой частый, заплутанный, что даже пройти трудно, не то что проехать. Дивное это дело; кажется, вот и жило тут не далеко, человек, стало быть, действует, а в этих местах словно ноги человеческой не бывало: кроме звериного следу, все ровно и гладко.
Там, в самой чаще, наткнулись мы под конец на лачужку. Стояла она неподалеку от оврага, в котором речка Ворчан бежит; позади ее, саженях этак в двадцати, полянка расчищена; на речке меленка маленькая, по-нашему мутовка. Кажись бы, все хозяйство тут -- как бы жилья не найти? Однако ж без проводника именно не сыщешь, по той причине, что уж оченно лес густ, а тропок и совсем нет: зимой тут весь ход на лыжах, а летом и ходить некому; крестьяне в работе, а старцы в разброде; остаются дома только самые старые и смиренные.
Старец Асаф, к которому я пристал, подлинно чудный человек был. В то время, как я в лесах поселился, ему было, почитай, более ста лет, а на вид и шестидесяти никто бы не сказал: такой он был крепкий, словоохотный, разумный старик. Лицом он был чист и румян; волосы на голове имел мягкие, белые, словно снег, и не больно длинные; глаза голубые, взор ласковый, веселый, а губы самые приятные.
Он меня согрел и приютил. Жил он в то время с учеником Иосифом -- такой, сударь, убогонький, словно юродивый. Не то чтоб он старику служил, а больше старик об нем стужался. Такая была уж в нем простота и добродетель, что не мог будто и жить, когда не было при нем такого убогонького, ровно сердце у него само пострадать за кого ни на есть просилось.
Никому из пустынников не было ведомо, откуда он пришел и когда в лесах поселился, а сам он никому об этом не сказывал. Раз как-то, однако же, стал я об этом, любопытства ради, его спрашивать, так старик и невесть как растужился.
-- Кая для тебя польза, -- отвечал он мне (а говорил он все на манер древней, славянской речи), -- и какой прибыток уведать звание смиренного раба твоего, который о том только и помыслу имеет, чтоб самому о том звании позабыть и спасти в мире душу свою? И кая тебе польза от того, что очам твоим раны мои душевные объявятся и гноище мое узриши? И станешь ли ты вестника, глашающего тебе весть добрую, вопрошать о том, откуду он, и не посадишь ли его, вместо того, за стол и не насытишь ли глад его? Аз есмь для тебя вестник добрый, аз душу твою обрел и из пламени адова исхитил ю, а ты мене же вопрошаешь, откудов я!
-- Да хотелось бы узнать, отче святый, -- отвечал я, -- какими, то есть, путями ты ангельского жития похотел и суетою многомятежною и прелестьми житейскими возгнушался, возлюбив всем сердцем Христа и спаса нашего.
Но он только головой потряс да сказал мне, что житие его, яко сон блудницы, во мраке нощи прейде, и сам он, яко скоморох бесстудный, во тьме метахся.
-- Да по крайности, скажи мне, как ты иночество получил? -- спросил я.
-- А как бы тебе сказать? -- отвечал он, -- пришед в пустыню, пал ниц перед господом вседержителем, пролиял пред ним печаль сердца моего, отрекся от соблазна мирского и стал инок... А посвящения правильного на мне нет.
На том мы с ним и покончили.
Время, которое я провел с Асафом в пустыне, самое для меня памятное. В ту пору не завелось еще в тех местах ни бесчинств, ни разврату; проводили мы дни в тишине, труде и молитве. А труд был один: книги божественные переписывали. Придет, бывало, весна, старцы, кои помоложе, сплывут с книгами вниз, да и продадут их там, а по осени домой с выручкой возвращаются. Разговоров промеж себя у нас было мало, разве что поучения отца Асафа слушали. Говорил он очень складно, особливо про антихристово пришествие. Он и выкладки такие делал, и выходило, что быть тому делу вскорости, однако вот и до сей поры не дождались.
Насчет антихриста, доложу я вам, вещь эта подлинно любопытная. У "особников" всякое почесть слово антихрист выходит, потому что вся эта механика, можно сказать, у него в руках. Недостанет у него в слове числа, он тебе прибавит букву, какую ему нужно; лишняя есть буква, он и отсечет, не задумается. А не то возьмет, примерно, хоть русское слово; не выходит оно по выкладке, он по-гречески переведет, и опять в числа. Бывает, что и так не выходит -- он титлу прибавит: господин, или граф, или князь, или дух тьмы. До тех пор этак действует, покуда и подлинно антихрист выдет. На простой народ это большое действо имеет.
А впрочем, живучи в пустыне, и не до разговору, барин. Там человек совсем будто другой делается. Особливо летом. Выдешь это на лужайку: вверху синё, кругом лес неисходный; птица всякая тебе поет, особливо кукушечка; там будто заяц пробежит, а вдалеке треск: значит, медведь себе дорогу прокладывает. И ведь все слышно; слышно даже будто, как травка растет... Запах такой мягкий, милый, потому что все это дичь, все словно лесом, землею пахнет. И на сердце ни печали, ни досады, ни заботы нет; тут и неверующий в бога поверует. Это нужды нет, что край там холодный, что в нем больше тундра да мокрое место: лето прежаркое, и такие места боровые случаются, что, кажется, и не расстался бы с ними.
Или вот опять ветер гудёт; стоишь в лесу, наверху гул и треск, дождик льет, буря вершины ломит, а внизу тихо, ни один сучок не шелохнется, ни одна капля дождя на тебя не падет... ну, и почудишься тут божьему строению!
Как поживешь этак в пустыне да приходит иное время, что месяц-другой живого лица не увидишь, так именно страсть можно к такой жизни получить. Никто тебя не трогает, никакой тебе, стало быть, ниоткудова досадности нет, значит, бодр, не тосклив, всегда в своем виде. Древние отцы пустынники даже отвращение к миру получали: так оно хорошо в пустыне бывает. Оглядишься кругом, все так пространно: и в высь, и в ширь, и в глубь идет; всяка былинка малая, и та, сударь, жизнь имеет: ну, и восчувствуешь тут, что и сам ты словно былинка.
Хорошо тоже весной у нас бывает. В городах или деревнях даже по дорогам грязь и навоз везде, а в пустыне снег от пригреву только пуще сверкать начнет. А потом пойдут по-под снегом ручьи; снаружи ничего не видно, однако кругом тебя все журчит... И речка у нас тут Ворчан была -- такая быстрая, веселая речка. Никуда от этих радостей идти-то и не хочется.
И как все оно чудно от бога устроено, на благость и пользу, можно сказать, человеку. Как бы, кажется, в таких лесах ходить не заблудиться! Так нет, везде тебе дорога указана, только понимать ее умей. Вот хошь бы корка на дереве: к ночи она крепче и толще, к полдню тоньше и мягче; сучья тоже к ночи короче, беднее, к полудню длиннее и пушистей. Везде, стало быть, указ для тебя есть.
И народ-то там словно лучше, добрее. Напоследях и в нем порча заводиться начала, потому что стали там проходить возы с товарами на Вочевскую пристань: [Устьвочевская пристань (Вологодской губернии) находится в верховьях Северной Кельтмы, впадающей в Вычегду. Товары, сплавляемые с этой пристани, преимущественно заключаются в разного рода хлебе и льняном семени, привозимом туда гужем из северо-западных уездов Пермской губернии: Чердынского, Соликамского и отчасти Пермского и Оханского. Вообще, Вологодская губерния изобилует судоходными и сплавными реками, особенно в северо-восточной части (уезды: Устьсысольский, Никольский и Устюжский), которые приносят пользу не столько для Вологодского края, в этой части безлюдного и негостеприимного, сколько для соседних губерний: Вятской и Пермской. Известно, например, что вся торговля северной части Вятской губернии почти исключительно направлена к Архангельскому порту, куда товары (хлеб и лен) сплавляются по рекам: Лузе (пристани: Ношульская и Быковская), Югу (пристань Подосиновская) и Сысоле (пристань Кайгородская). Ко всем этим пристаням ведут коммерческие тракты, весьма замечательные по своему торговому движению. К сожалению, должно сознаться, что этот факт, узаконенный естественною силою обстоятельств, обратил на себя еще слишком мало внимания. Так, например, дорога от городов: Орлова, Слободского и Вятки до Ношульской пристани находится в самом печальном состоянии, а от тех же городов до Быковской пристани почти вовсе не существует дороги, между тем как проложение до нее удобного тракта, по причине выгоднейшего ее положения, сравнительно с Ношульскою пристанью, было бы благодеянием для целого края. Вообще, изучение торгового движения по коммерческим трактам северо-восточной России, и в особенности Вятской губернии, и сравнение его с движением, совершающимся по трактам официяльным (почтовым), представило бы картину весьма поучительную. На первых -- деятельность и многолюдство, на последних -- пустыня к мертвенная тишина. Чтобы убедиться в этом, достаточно проехать по коммерческому тракту, издревле существующему между городами и уездами: Глазовским и Нолинским, и потом прокатиться но почтовому тракту, соединяющему губернский город Вятку с тем же Глазовом. На первом беспрестанно встречаете вы длинные ряды обозов, нагруженных товарами; там же лежат богатые и торговые села: Богородское, Ухтым, Укан, Уни, Вожгалы (последние два немного в стороне) -- это центры местной земледельческой промышленности; на втором все пустынно, торговых сел вовсе нет, и в течение целой недели проедет лишь почтовая телега, запряженная парой и везущая два предписания и сотню подтверждений местным дремотствующим властям, да письмо к секретарю какого-нибудь присутственного места от губернского его кума и благо-приятеля. Нельзя сомневаться, что торговые обороты много терпят от продолжительности времени, которая сопровождает сношения частных лип. (Прим. Салтыкова-Щедрина.)] ну, знамо дело, постоялые дворы завелись, пошли барыши да расчеты, а допрежь того, кроме звериного промысла, никаких других делов народ этот и не знавал. Зверя там всякого множество: олени, лоси, лисицы, медведи, горностайки, даже соболи попадаются. А белка да зайцы просто кишмя кишат. И птица всякая стадами летает: рябцы, курочки белые (куропатки) -- всего, кажется, и в жизнь не перестреляешь. Пермяки и зыряне целую зиму по лесам ходят; стрельба у них не с руки, а будто к дереву прислонясь; ружья длинные, по-ихнему туркой прозываются; заряд в него кладется маленький, и пулька тоже самая мелконькая: вот он и норовит белке или горностайке в самый, то есть, конец мордочки попасть. Эта статья самая любопытная.
Прожили мы в этом спокойствии года три; все это время я находился безотлучно при Асафе, по той причине, что должен был еще в вере себя подкрепить, да и полюбил он меня крепко, так что и настоятельство мне передать думал. Однако этому делу статься было нельзя потому, что другие пустынники смотрели на нашу приязнь злобно. Человек их было с десяток и жили все от Асафа неподалечку: у кого в двух, у кого в трех верстах кельи были. Особливо отец Мартемьян был -- старец преехиднейший -- большую он над прочими силу имел, и даже против Асафа нередко их сомущал. Выходит, что вся эта братия только и держалась, покуда жив был старик.
Однажды приходит к нам в келью мужик -- а привел его Мартемьян.
-- Откудов мол, и зачем? -- спрашивает наш старик.
-- А вот, -- говорит, -- с Зюздина [Бывшая Зюздинская, ныне Порубовская, волость находится в Глазовском уезде Вятской губернии, неподалеку от описываемого здесь места действия, которое составляет как бы угол, где сходятся границы трех обширнейших в Русском царстве губерний: Вологодской, Вятской и Пермской. (Прим. Салтыкова-Щедрина.)].
-- Зачем же к нам пожаловал?
-- Да поселиться бы здеся желательно, отец святой. Подати добре одолели, да вот и парнишку ноне в некрутЮ тащат, а идти ему неохота, да и грех.
-- Так ты семьянистый?
-- Да, мол, семья есть; жена-старуха, две дочки-девки да трое сынов.
-- Где ж ты поселишься?
-- Здесь вот, около вас бы желательно; я уж и на деревню к пермякам ходил; они говорят: "Пожалуй, заводись: куды нам эко место!"
-- Так ты, стало, от податей бегаешь?
-- Да оно точно, что тово... подати больно уж совсем одолели... [Ревизские сказки Порубовской волости Глазовского уезда и Юксеевской -- Чердынского могут засвидетельствовать о чрезвычайном количестве крестьян, находящихся в безвестной отлучке. Замечательно, что в Вятской губернии, где подати везде выплачиваются бездоимочно, только Порубовская и Трушниковская (Слободского уезда) волости считают за собой постоянную недоимку. Впрочем, накопление недоимок в последней волости зависит от причин особых, сюда не относящихся. (Прим. Салтыкова-Щедрина.)]
-- Да что, святой отец, -- вступился тут Мартемьян, -- словно ты к допросу его взял! Если ты об вере радеешь, так не спрашивай, от какой причины в твое стадо овца бежит, потому как тебе до эвтого дела касательства нет.
Начался у нас совет. Сколько ни отстаивал Асаф свою правду, а Мартемьян перемог. Крупненько-таки они, сударь, поговорили, и если б не я, так, может, этот Мартемьяшка, сосуд сатанин, и руку бы на старика поднял.
-- Ты, -- говорит, -- вот семьдесят годов здесь живешь, а какой от тебя святой вере прибыток? Этакое дело большое затеяли, а чихнуть здесь боимся; еще где становой запах даст, а мы уж в леса бежим, от него, от антихриста, хоронимся. Нет, отец, стар ты стал. По-нашему, это дело так вести следует, чтоб он носу своего здесь не показал, а показал -- так чтоб турка его в разум привела. Вот, посмотришь, на Пильве старцы живут: и видно, что народ крепкий. По этой причине они и стороной всей завладели, а ты только сумненье кругом посеял. Какие же это дела?
Старик только стонал да крестился.
-- Ну, -- сказал он под конец, -- вижу, что и подлинно я стар стал, а пуще того вам не угоден... Знаю я, знаю, чего тебе хочется, отец Мартемьян! К бабам тебе хочется, похоть свою утолить хощешь у сосуда дьявольского... Коли так, полно вам меня настоятелем звать; выбирайте себе другого. Только меня не замайте, Христа ради, дайте перед бога в чистоте предстать!
Начали было уговаривать его не оставлять братию: иные искренно, а большая часть только для виду, потому что всем им из лесу вон хотелось. Кончилось, разумеется, тем, что выбрали из среды своей того же Мартемьяна, который всю смуту завел.
Вскоре после того и преставился старец Асаф. Словно чуяло его сердце, что конец старой вере, конец старым людям пришел.
После него все пошло по-новому. Сперва поселился Мокей зюздинский с бабами, а за ним семей еще боле десятка перетащилось. Старцы наши заметно стали к ним похаживать, и пошел у них тут грех и соблазн великий. Что при старике Асафе было общее, -- припасы ли, деньги ли, -- то при Мартемьяне все врозь пошло; каждый об том только и помыслу имел, как бы побольше милостыни набрать да поскорее к любовнице снести.
Надо было и мне подумать, как себя пропитать. Пришлось впервой с пустыней расстаться, и уж куда мне тяжело это показалось. Думал я и жить и умереть тут, думал душу свою спасти, нарочно от родных, от своих мест бежал -- и тут нет удачи. Собрал я свои писанья, сдал Иосифа мужичку на деревню и сплыл по весне вниз по Каме, на плотах. Домой идти мне не хотелось, да и не след, потому что схватят, пожалуй; вот и высадился я в Лёнве [Ленва -- большое село, принадлежащее графине Строгановой, в Соликамском уезде, Пермской губернии. Оно находится в шести верстах от обширного села Усолья, знаменитого своими соляными варницами и принадлежащего пяти владельцам: графу и графине Строгановым, князю Голицыну, графине Бутера и гг. Лазаревым. Эти два села и лежащее между ними село Веретия (графини Строгановой), также весьма большое, составляют как бы сплошное местечко, которое, по обширности и количеству народонаселения, едва ли уступает губернскому городу Перми, а в торговом и промышленном значении стоит несравненно выше его. (Прим. Салтыкова-Щедрина.)].
Здесь, сударь, начались мои странствия: где ночь, где день. Там канунчик прочитаешь, в другом месте младенцу молитву дашь, в третьем просто побеседуешь. И все-таки, доложу вам, тут я еще больше уверился, что рушилась старая вера, что все это обман один сделался в руках нечестивых. Главное у меня место, в котором я жил и откудова направлял свои странствия, было село Ильинское [Пермской губернии и уезда; принадлежит графине Строгановой. (Прим. Салтыкова-Щедрина)]. Жил там крестьянин такой -- Захватеевым прозывался -- и чем-чем не промышлял он! Сынишка у него Миколка был, так тот и пашпорты фальшивые подделывал, и буквы гражданские откудова-то достал. Принесут это ему негодящий пашпорт, так он старую-то печать вытравит, да новое, что ему нужно, и вставит. Чертить тоже искусник был, особливо Апокалипсис разрисовывать.
Раз как-то и разговорились мы с стариком об нашем деле. То есть я будто напомнил ему тут, что не след в святое дело такую, можно сказать, фальшь пущать. Посмотрел он на меня, ровно глаза вытаращил.
-- А ты откудова, -- говорит, -- с такими речьми сюда приехал, приятель?
Стал я ему объяснять, что вот и старик Асаф этого не одобрял, что он наставлял бежать от суеты в пустыню, а не то чтоб зазорным делом заниматься, фальшивые пашпорты сочинять.
-- Вспомни, мол, ты, -- говорю, -- что в книгах про пашпорты-то написано! Сам спас Христос истинный сказал: странна мя приимите; а какой же я буду странник, коли у меня пашпорт в руках? С пашпортом-то я к губернатору во дворец пойду! А ты не токма что пашпорт, а еще фальшивый сочиняешь!
А он, сударь, только засмеялся.
-- Это, -- говорит, -- вы с Асафом бредили. Вы, говорит, известно, погубители наши. Над вами, мол, и доселева большего нет; так если вы сами об себе промыслить не хотите, мы за вас промыслим, и набольшего вам дадим, да не старца, а старицу, или, по-простому сказать, солдатскую дочь... Ладно, что ли, этак-то будет?
-- Чем не ладно, -- говорю, -- поди, чай, она и с девками к нам на эпархию прибудет?
-- А хошь бы и с девками? Это вы только там в лесах спросонков-то бредите, а нам нужно дело. Нам до того касательства нет, что вы там делаете, блудно или свято живете; нам надобны старцы, чтоб мы всякому указать могли, что вот, мол, у нас пустынники в лесах спасаются; а старцы вы или жеребцы, про то знаете вы сами. Ну, и окромя того, надобен нам и приют про черный день, чтоб было где уберечься. Нонече жить на селе совсем неспособно стало: то управляющий графский, то полицейские тебя беспокоят. После обыску-то кажный раз дня три словно шальной ходишь: свое растащут, свое туда запехают, что и не сыщешь. Вот я и к церкви пристал, а какой в этом прок? Только от своих сумненье, что будто веру свою продал, а начальство тоже в оба глядит: врешь, мол, все, притворствуешь. А мы вот ноне какую штуку придумали, чтоб быть в ваших лесах скитам великим и чтоб всякому там укрыться способно было. У нас и пошта такая будет от деревни до деревни: чуть что прослышим, вам ту ж минуту и слух подадим. Покедова они там собираются да едут, у вас и след уж простыл. А с бреднями-то, приятель, хошь и далеко уедешь, да, пожалуй, не туда, куда хочется.
Полюбопытствовал я узнать, кто такова эта Артемида-богиня, и проведал, что прозывается она Натальей, происхождением от семени солдатского и родилась в Перми. Жила она, слышь, долгое время в иргизских монастырях, да там будто и схиму приняла.
И точно, воротился я к Михайлову дню домой, и вижу, что там все новое. Мужички в деревнишке смутились; стал я их расспрашивать -- ничего и не поймешь. Только и слов, что, мол, генеральская дочь в два месяца большущие хоромы верстах в пяти от деревни поставила. Стали было они ей говорить, что и без того народу много селится, так она как зарычит, да пальцы-то, знашь, рогулей изладила, и все вперед тычет, да бумагу каку-то указывает.
-- Вы, -- говорит, -- знаете, собаки, что мне и губернатор приятель: захочу, -- говорит, -- всех вас в Сибирь вышлют.
-- Кто же хоромы-то ей ставил? -- спрашиваю я.
-- Да мы же; старшина, слышь, и место сам отводил и доподлинно всем настрого наказывал, что нас и неведомо куда вышлют, если мы какое ни на есть прекословие сделаем енаральской дочери.
-- А много с ней народу приехало?
-- Да с десяток девок будет; одна только старая, будто у ней помощница, смирная такая, все богу молится, а прочие -- таки здоровенные девки.
Пошел я в свою келью, а дорогой у меня словно сердце схватило; пойду, думаю, к отцу Мартемьяну; он хошь и не любил меня, а все же старика Асафа, чай, помнит: может, и придумаем с ним что-нибудь на пользу душе.
Однако понадеялся я, выходит, понапрасну. У Mapтемьяна застал я девок зюздинских: сидят бесстыжие и тоже духовные песни распевают, словно молитвой занимаются. Промеж них, вижу, сидит мужчина, здоровенный такой, лицо незнакомое.
-- А это, -- говорит Мартемьян, -- новый у нас старец прибыл, отец Иаков прозывается; он для нас сколь хошь всякой манеты наделает -- мастер.
А у мастера в руках гармония.
-- Зачем же, -- говорю, -- гармония-то? разве пустыннику на то руки даны, чтоб на богомерзкой гармонии девок забавлять?
-- А это, мол, кимвалы. И в писании сказано, что царь Давид в кимвалы играл... Да ты, мол, теперича не ломайся, а вот хочешь ли я тебе штуку покажу? Такая, отче святой, штука, что и на ярмонке за деньги не увидишь.
И ударил его ладонью-то по лбу, а там буква такая белая и объявилась -- клейменый, значит.
-- А что, мол, -- промолвил я, -- чай, и на спине начальническое подареньице есть?
-- Как же, -- говорит, -- во всех местах; сказано: по окиану житейскому происходил, все, значит, бури-напасти претерпел.
-- Откудова же ты к нам экой меченый проявился? -- спрашиваю я.
-- А тут неподалечку, -- говорит, -- был, в Иркутской губернии, около Нерчинска, в том в самом месте, где солнце восходит великое...
-- Зачем же к нам?
-- Да проведал про ваши добродетели многие, и думаю, чем душегубством мне займоваться, так стану, мол, я ин душу спасать.
-- Да разве ты посвящен, что чин иноческий на себе носишь?
-- А я тут их всех гуртом окрутил, -- говорит Мартемьян, -- чего нам ждать? указу нам нету, а слуги Христовы надобны. Вот другой еще у нас старец есть, Николой зовется: этот больше веселый да забавный. Наши девки все больно об нем стужаются. "У меня, говорит, робят было без счету: я им и отец, и кум, и поп; ты, говорит, только напусти меня, дяденька, а я уж християнское стадо приумножу". Такой веселой.
На другой день посетил я и девичий скит.
Все, думаю, распознать прежде надо, нечем на что-нибудь решиться. Да на что ж и решаться-то? думаю. Из скитов бежать? Это все одно что в острог прямо идти, по той причине, что я и бродяга был, и невесть с какими людьми спознался. Оставаться в лесах тоже нельзя: так мне все там опостылело, что глядеть-то сердце измирает... Господи!
Встретила меня сама мать игуменья, встретила с честью, под образа посадила: "Побеседуем", -- говорит. Женщина она была из себя высокая, сановитая и взгляд имела суровый: что мудреного, что она мужикам за генеральскую дочь почудилась? Начал я с ней говорить, что не дело она заводит, стал Асафа-старика поминать. Только слушала она меня, слушала, дала все выговорить, да словно головой потом покачала.
-- Ну, -- говорит, -- сказал ты свою речь, честной отец, выслушай же теперь мою. Все это точно истина, что ты говоришь; в леса люди бегут, известно, не за тем, чтоб мирским делом заниматься, а за тем, чтоб душу спасать. Это сущая правда. Да ты вот только то позабыл, что ты или я, мы, слова нет, душу спасти хотим: мы с тобой век-от изжили, нам, примерно, суета уж на ум нейдет. Ну, а другому еще пожить хочется; оно ведь и не грех какой, что ему пожить желательно. Сам ты знаешь, что, если всякий душу спасать начнет, кто же в мире-то жить станет? А как тут жить, сам ты посуди, когда на тебя словно на зверя лесного поглядывают. Коли ты жил в мире, так знаешь, чай, какова наша жизнь? Ты вот трудился, капитал, сказывают, нажил, а куда все это девалось?
-- За грехи мои бог меня наказал, -- говорю я.
-- Это ты говоришь "за грехи", а я тебе сказываю, что грех тут особь статья. Да и надобно ж это дело порешить чем-нибудь. Я вот сызмальства будто все эти каверзы терпела: и в монастырях бывала, и в пустынях жила, так всего насмотрелась, и знашь ли, как на сердце-то у меня нагорело... Словно кора, право так!
Говорит она, сударь, это, а сама бледная-разбледная, словно мертвая сделалась; и губы у ней трясутся, и глаза горят.
-- Намеренья у меня покудова нет, а знаю только, что сердце мне сорвать надоть. Это уж я себе обещанье такое дала, и сделаю. И опять вот говоришь ты, что надо, мол, богу молиться да душу спасать, а я тебе сказываю, что не дело ты языком болтаешь. И богу молиться, и душу спасать -- все это не лишнее, да от этого только для одного тебя, можно сказать, польза, а мы желаем, чтоб всему християнству благодать была... И вот тебе моя последняя заповедь: хочешь за нас стоять -- живи с нами; не хочешь -- волен идти на все четыре стороны; мы нудить никого не можем. А нас не мути.
С тем она меня и отпустила. Пошел я к черницам, а они сидят себе сложа руки да песни под нос мурлыкают.
-- Что ж вы тут делаете? -- спрашиваю я.
-- Как что? песни поем, спим да хлеб жуем. Вот ужо старцы придут.
-- И весело вам так-ту жить?
-- Для-че не весело! Ужо Николка "пустынюшку" споет: больно эта песня хороша, даже мать Наталья из кельи к нам ее слушать выходит. Только вот кака с нами напасть случилась: имен своих вспомнить не можем. Больно уж мудрено нас игуменья прозвала: одну Синефой, другую -- Полинарией -- и не сообразишь.
-- А грамоте знаете?
-- Какая грамота -- поди ты с грамотой! У нас так и условие выговорено, чтоб грамоте не учить. Известно, песни петь можем -- вот и вся грамота.
Объявлено было в ту пору по нашим местам некрутство; зовут меня однажды к Наталье. Пришел.
-- Ну, -- говорит, -- ступай ты в город.
-- Зачем?
-- А вот, -- говорит, -- там некрутство сказано, так я мужичку обещала сына из некрут выкрасть. Там у меня и человек такой есть, что это дело беспременно сделает.
-- Да я-то при чем тут буду?
-- А ты будешь ему в этом деле помощником... А может, там и другие некрута объявятся, что в скиты охочи будут, так ты их уговаривай. А охочим людям сказывай, что житье, мол, хорошее, работы нет, денег много, пища -- хлеб пшеничный.
-- Воля твоя, мать игуменья, а на такое дело мне идти не приходится.
-- Нет, -- говорит, -- приходится. Я тебя нарочито выбрала, чтоб узнать, крепок ли ты; а не крепок, так мы и прикончим с тобой: знаешь турку!
Вижу я, что дело мое плохое: "Что ж, думаю, соглашусь, а там вышел в поле, да и ступай на все четыре стороны". Так она словно выведала мою душу.
-- Ты, -- говорит, -- сбежать не думаешь ли? так от нас к тебе такой человек приставлен будет, что ни на пядь тебя от себя не отпустит.
И точно, вышел я от нее не один, а с новым старцем, тоже мне неизвестным; молодой такой, крепкий парень. Уехали мы с ним в ночь на переменных. Под утро встречаем мы это тройку, а в санях человек с шесть сидят.
-- Здорово! -- кричит мой провожатый, -- куда путь лежит?
Сани остановились.
-- А мы к вам в скиты; охочих людей везем.
-- Неужто некрута?
-- Какие некрута? Подымай выше -- узники!
-- Как так?
-- Да вот как видишь! какая еще штука-то уморная была! Поймали, знашь, вот этих трех молодцов у кассы вотчинной: понюхать им, вишь, захотелось, каков в ней есть дух. Однако управляющий не верит: "В кандалы их", -- говорит. Только проведали мы об этом с Захватеевым Миколкой и думаем, вот кабы эких бы робят в скиты, да они, мол, душу свою за нас извести готовы, нечем в Сибирь шагать. Узнали мы, что повезут их с тремя десятскими -- что ж, попытать разве счастья, расступись, мол, мать сыра-земля, разгуляйся, Волга-матушка! Съездили мы в Очёру [Железоделательный завод в Пермской губернии, принадлежащий гг. Лазаревым. (Прим. Салтыкова-Щедрина.)], взяли у человека три тройки, и шабаш. Село нас в сани человек с двенадцать, приготовили, для осторожности, на головы такие мешки с дырьями и ждем у лесочка. Вот только, видим, катят будто наши, скоро не шибко, а так трюх-трюх. Вскочили мы в сани и пустили лошадей во все, то есть, колокола. Нам кричат встречу: "Сторонись!" -- а у нас будто уши заложило: наехали на них смаху, санишки ихние выворотили, а молодцов похватали... вот и едем теперь.
-- Подь-ка, чай, Васька злится?
А Васька-то, сударь, ихний управитель.
Так вот какие дела на свете делаются.
Приехали мы в город и остановились у мещанина. Начал тут к нам разный народ приходить, а больше всё некрута. Мещанин этот ту же должность в городе справлял, какую я в Крутогорске; такой же у него был въезжий дом, та же торговля образами и лестовками; выходит, словно я к себе, на старое свое пепелище воротился. Стали было они меня понуждать поначалу, чтоб я вместе с ними в уговорах часть принял; однако так сердце у меня сильно растужилось, что я не похотел принять на душу новый грех. Так они меня, звери этакие, в холодный чулан на день запирали, чтобы я только голоса своего не подал.
Чудное, сударь, это дело! и доселе понять не могу, зачем она меня в город выслала. В этом деле, за которым они поехали, нужен был человек усердный, а, разумеется, от меня она не могла усердья ждать. Вот и сдается, что затем она мне это препорученье сделала, чтобы из скитов меня сбыть. Стал я подумывать, прикидывать разумом, куда мне идти. Домой на завод ворочаться -- стыдно; в пустыню -- изгубят злодеи; в другие места, где тоже наша братья пустынники душу спасают, -- горше прежнего житье будет. Какая же это, думаю, старая вера и что ж это с нами будет?
Вот и порешил я, сударь, таким манером, что выбрал время сумеречки, как они все на базар пошли, сказался, что за ворота поглядеть иду, а сам и был таков. Дошел до первого стана и объявился приставу".
МАТУШКА МАВРА КУЗЬМОВНА
Предлагаемый рассказ заимствован из записок, оставшихся после приятеля моего, Марка Ардалионыча Филоверитова, с которым читатель имел уже случай отчасти познакомиться. [См. "Надорванные". (Прим Салтыкова-Щедрина.)] Они показались мне, несмотря на небрежность отделки, достаточно любопытными, чтобы предложить их на суд публики.
Я не намерен возобновлять здесь знакомство читателя с Филоверитовым, тем не менее обязываюсь, однако ж, сказать, что он одною своею стороной принадлежал к породе тех крошечных Макиавелей, которыми, благодаря повсюду разливающемуся просвещению, наводнились в последнее время наши губернские города и которые охотно оправдывают все средства, лишь бы они вели к достижению предположенных целей.
Город С ***, о котором идет речь в этом рассказе, не имеет в себе ничего особенно привлекательного; но местность, среди которой он расположен, принадлежит к самым замечательным. Коли хотите, нет в ней ни особенной живописности, ни того разнообразия, которое веселит и успокоивает утомленный взор путника, но есть какая-то девственная прелесть, какая-то привлекательная строгость в пустынном однообразии, царствующем окрест. Необозримые леса, по местам истребленные жестокими пожарами и пересекаемые быстрыми и многоводными лесными речками, тянутся по обеим сторонам дороги, скрывая в своих неприступных недрах тысячи зверей и птиц, оглашающих воздух самыми разнообразными голосами; дорога, бегущая узеньким и прихотливым извивом среди обгорелых пней и старых деревьев, наклоняющих свои косматые ветви так низко, что они беспрестанно цепляются за экипаж, напоминает те старинные просеки, которые устроены как бы исключительно для насущных нужд лесников, а не для езды; пар, встающий от тучной, нетронутой земли, сообщает мягкую, нежную влажность воздуху, насыщенному смолистым запахом сосен и елей и милыми, свежими благоуханиями многоразличных лесных злаков... И если над всем этим представить себе палящий весенний полдень, какой иногда бывает на нашем далеком севере в конце апреля, -- вот картина, которая всегда производила и будет производить на мою душу могучее, всесильное впечатление. Каждое слово, каждый лесной шорох как-то чутко отдаются в воздухе и долго еще слышатся потом, повторяемые лесным эхом, покуда не замрут наконец бог весть в какой дали. И несмотря на тишину, царствующую окрест, несмотря на однообразие пейзажа, уныние ни на минуту не овладевает сердцем; ни на минуту нельзя почувствовать себя одиноким, отрешенным от жизни. Напротив того, в себе самом начинаешь сознавать какую-то особенную чуткость и восприимчивость, начинаешь смутно понимать эту общую жизнь природы, от которой так давно уж отвык... И тихие, ясные сны проносятся над душой, и сладко успокоивается сердце, ощущая нестерпимую, безграничную жажду любви.
Но вот лес начинает мельчать; впереди сквозь редкие насаждения деревьев белеет свет, возвещающий поляну, реку или деревню. Вот лес уже кончился, и перед вами речонка, через которую вы когда-то переезжали летом вброд. Но теперь вы ее не узнаете; перед вами целое море воды, потопившей собою и луга и лес верст на семь. Вы подъезжаете к спуску, около которого должен стоять дощаник, но его нет.
-- Неужто это Уста так разлилась, ребята? -- спрашиваете вы мужичков, которые, должно быть, уже много часов греются на солнышке, выжидая дощаника.
-- ПСшто не Уста? Уста и есть! -- отвечает один из ожидающих, не только не привставая, но даже не оборачивая к вам своей головы, -- а кма ноне воды, паря, травы поди важные будут!
-- Скоро ли дощаник будет? -- спрашиваете вы.
-- А кто его знает! ноне он поди верст семь за один конец ходит. К вечеру, надо быть, придет...
Скрепя сердце вы располагаетесь на берегу, расстилаете ковер под тенью дерева и ложитесь; но сон не смыкает глаз ваших, дорога и весенний жар привели всю кровь вашу в волнение, и после нескольких попыток заставить себя заснуть вы убеждаетесь в решительной невозможности такого подвига.
Вы встаете и садитесь около самой воды, неподалеку от группы крестьян, к которой присоединился и ваш ямщик, и долгое время бесцельно следите мутными глазами за кружками, образующимися на поверхности воды. Лошади от вашей повозки отложены и пущены пастись на траву; до вас долетает вздрагиванье бубенчиков, но как-то смутно и неясно, как будто уши у вас заложило. В группе крестьян возобновляется прерванный вашим приездом разговор.
-- Эх, братец ты мой, да ты пойми, любезный, -- говорит один голос, -- ведь она, старуха-то, всему нашему делу голова; ну, он к ней, стало быть, и преставился, становой-ет... "Коли вы, говорит, матушка Уалентина, захочете, так и делу этому конец будет, какой вам желательно". Ну, а она поначалу тоже думала, что он ее заманивает, чтобы как ни на есть в острог угодить: "Я, говорит, ваше благородие, тут ни при чем, я человек мертвый, ветхий, только именем человек, а то ноги насилу таскаю..." Однако он от своего планту не отступился и начал со всею откровенностью: "Я, говорит, матушка, не притязатель какой. Потому как знаю, что не сегодня, так завтра, во всякое время дебош могу сделать и вас изобидеть... А я, говорит, по усиленной только необходимости это делаю, потому как деньги мне уж оченно нужны..." Ну, и она тоже ему: "Коли ты, говорит, ваше благородие, со всею откровенностью, так, пожалуй, станем беседовать. Сколь же, мол, вашему благородию денег нужно?" -- "Да сотни кабы три, говорит, так я бы и уехал..." -- "Ну, это, говорит, много: неравно облопаешься: ты, мол, и без того три дня у нас тутотка живешь, всю снедь от нас тащишь, так, по этому судя, и полторы сотни тебе за глаза будет..." Только он было ее и застращивать, и просить примался -- уперлась баба, да и вся недолга, а без ее, то есть, приказу видит, что ему никакого дела сделать нельзя. Ну, и порешил на том, что дали... Так она у нас теперь и стоит, часовня-то, исправленная, да такая ли, парень, едрёная, что, кажется, и скончанья ей никогда не будет... В ту пору вот, как исправлять-то ее примались, так плотник Осип начал накаты было рубить: такие ли здоровенные, что, слышь, и топор не берет, а нутро-то у бревна словно желток желтое скипелось... во как отцы-то наши на долгие века строились, словно чуяли, что и про нас будет надобе...
-- Когда же не надобе?.. Да чтой-то, парень, словно он дешево больно от вас отступился? -- вступается другой голос.
-- И то, голова, дешево. Уж пытали и мы сумневаться, что бы тако значило, что вот прежний становой за это же самое дело по пятисот и больше с нас таскал... уж и на то, брат, думали, что, може, приказ у него есть, чтобы нас, то есть, не замать...
-- А что думаешь, може, и взаправду есть!
-- А кто его знает? може, и так, а може, и оттого, что в те поры, как пятьсот-то давали, не было у нас старицы нашей, некому было, стало быть, и говорить-то с ним толком.
-- Да, благодатная эта старица... да что ж она в кельи, что ли, у вас живет?
-- А у дяди Онуфрия на дворе в бане... чай, знаешь дядю Онуфрия? Ну, и мы к ней с полным нашим уважением, -- только заступись за нас, матушка.
Разговор на несколько минут прекращается, и до вас долетают только вздохи, которые испускает ветхий старик, сидящий в самом центре группы, да хлест кнута, которым ямщик, для препровождения времени, бьет себя по сапогу.
-- Ну, а ты, дедушка, каково перевертываешься? -- спрашивает рассказчик, обращаясь к старику.
-- Да вот к Онисиму на Заводь ходил хлебушка попросить... только чтой-то он уж ноне больно сердит стал: ничего-таки не дал.
-- Что ж снедать-то будете?
-- А чего снедать? -- нечего!
Снова наступает молчание, и снова слышатся вздохи старика.
-- Да ты, дедушко, опять сходи попроси, -- вступается ямщик, -- дядя Онисим старик любезный: ты уважь его, сходи в другой раз; он даст, как не дать!
-- Известно, дядя Онисим любит, чтоб перед ним завсегда с почтением пребывали, -- объясняет рассказчик.
-- Ин и взаправду сходить придется, -- отвечает старик, вздыхая, -- только ноженьки-то у меня больно уж ходимши примаялись... словно вот вертма вертит в косте-то... а сходить надо будет: не емши веку не изживешь!
-- Ну, а у вас как, все ли на порядках? -- спрашивает рассказчик у ямщика.
-- А что! ничего, живем. Вот ономнясь вятские купцы в Москву проезжали.
-- Ну?
-- Ну, и проехали, -- отвечает ямщик, нахлестывая себя слегка по ноге.
-- Эк тебя вывезло! а ты говори дело!
-- Да что говорить-то? известно, живем. Да чу! не как дощаник-от пловет?
Действительно, вдали, из-за кустов, показывается чуть заметная точка, которая мало-помалу разрастается, и через несколько минут вы уже начинаете ясно различать очертания лодки.
-- Да-а-вай! -- кричит ямщик, устроивши из кулака своего подобие трубы.
-- По-о-спеешь! -- долетает издали ответный голос лодочников.
-- Вона! вона! мотри-ка, никак наши стЮрочки из лесу выходят! -- вскрикивает внезапно молодой парень с добродушнейшею физиономией, доселе не принимавший никакого участия в разговоре.
-- Ишь тебя разобрало! -- говорит ямщик, -- спал небось, соня, а девок увидел -- во как зазевал. А и то старки! да никак и Полинария (Аполлинария) тут! -- продолжает он, всматриваясь пристально в даль, -- эка ведь вористая девка: в самую, то есть, в пору завсегда поспеет.
Действительно, из леса выходит группа молодых баб, которые спешат к реке. Одна из них, побойчее, опережает прочих и подбегает к группе мужиков.
-- А и то, девки, в пору пришли! сказано: стань передо мной, как лист перед травой! -- говорит она, как бы отвечая на замечание ямщика, -- а вы тут, поди-чай, с утра раннего ждете-поджидаете...
-- Ну, где же ты, чтица, была-побывала? -- спрашивает рассказчик.
-- Над дедушкой Парфентьем читать ходила, да больно уж от покойника-то нестройно смердит...
-- Чего, чай, над дедушкой читала, -- замечает ямщик, -- поди, Омельке, чай, на печи сказки сказывала.
-- А и Омельке сказывала, -- отвечает бойкая баба, не конфузясь, -- тебе, стало быть, завидно, что ли?
-- Мне-ка чего! -- говорит ямщик, делая полуоборот и пристально уставляя глаза на сапог, -- не видался я, что ли, сказок-ту?
-- То-то чего!.. Верно, чего-нибудь да надобе, коли только об Омельке да об Омельке и речи на языке.
-- Мне чего Омелько! -- продолжает ямщик, -- мне Омелько плюнуть да растереть -- вот что! а только это точно, что как встретимся мы с ним, не пройдет без того, чтоб не обломать ему бока: право слово, обломаю.
Аполлинария хохочет.
-- Да так-таки обломаю, что тебе и взаправду читать придется... Да-а-вай! -- кричит он перевозчикам, как будто желая на них сорвать свое сердце.
Дощаник приближается; это небольшая лодка, поперек которой перекинут дощатый накат. Тарантас едва может уставиться на нем, и задние колеса, только вполовину уместившиеся на накате, ежеминутно угрожают скатиться в воду и увлечь за собою весь экипаж. Лошадей заставляют спрыгнуть на корму, и только испытанное благонравие этих животных может успокоить ваши опасения насчет того, что одно самое ничтожное, самое естественное движение лошади может стоить жизни любому из пассажиров, кое-как приютившихся по стенкам и большею частью сидящих не праздно, а с веслом в руках.
Русло речки переплывается очень скоро, и затем дощаник вступает в лес. Зрелище это поражает вас своею новизной и оригинальностью; вы плывете по аллеям, которые в иных местах делаются до того узкими, что дощаник только с помощью величайших усилий протаскивается вперед. Случается, что на поворотах течение воды столь быстро, что даже совокупное действие всех наличных сил, сопровождаемое дружными и одобрительными криками, на некоторое время делается тщетным. Напрасно командируется одна партия гребцов в воду и там, схватившись руками за ветви деревьев и кустов, тянет всем корпусом веревку, прицепленную к дощанику: лодка как будто бы топчется на одном месте, не подвигаясь ни на пядь вперед, и только слышно, как вода не то чтобы шумит, а как-то сосредоточенно жужжит кругом, поминутно угрожая перевернуть вверх дном утлую скорлупу. Такого рода препятствия встречаются на каждом шагу, и оттого переправа совершается до такой степени медленно, что переезд этих шести-семи верст отнимает по крайней мере пять-шесть часов. Но вот наконец виднеется за туманами берег, образуемый пригорком, на котором привольно растет все тот же неисходный лес; говор и шум стихают, весла опускаются, и дощаник потихоньку и плавно подступает к берегу...
И опять зазвенел колокольчик, опять потянулись направо и налево леса; только тишина сделалась как-то глубже, торжественнее, потому что и звери, и птицы, и растения -- все это заснуло чутким сном под прозрачным покровом весенней ночи.
Понятно, что необычайная простота и незатейливость этой природы должна сурово действовать и на человека, в ней обитающего. И действительно, поселяне, живущие в деревнях, которые, как редкие оазисы, попадаются среди лесов, упорно держатся так называемых старых обычаев и неприязненно смотрят на всякого проезжего, если он видом своим напоминает чиновника или вообще барина. Живут они очень зажиточно и опрятно, но на всех их действиях, на всех движениях лежит какая-то печать формализма, устраняющая всякий намек на присутствие идеала или того наивно-поэтического колорита, который хоть изредка обливает мягким светом картину поселянского быта. Коли хотите, есть у них свои удовольствия, свои отклонения от постоянно суровой, уединенно-эгоистической жизни, но эти удовольствия, эти увлечения принимают какой-то темный, плотяный характер; в них нет ни мягкости, ни искренней веселости, и потому они легко превращаются в безобразный и голый разврат. И до сих пор в лесах этой местности попадаются одинокие скиты, в которых нередко находит убежище не жажда молитвы и спасения душевного, а преступление и грубое распутство. Но поселяне не только с тупым равнодушием смотрят на такое явление, но даже, некоторым образом, способствуют развитию его.
Таков народ, такова местность, окружающие город С ***. Город этот, сам по себе ничтожный, имеет, впрочем, весьма важное нравственное значение как центр, к которому тянет не только вся окрестность, но многие самые отдаленные местности России. В особенности замечательно в нем преобладание женского элемента над мужским. На улицах и у ворот почти исключительно встречаются одни женщины, в неизменных темно-синих сарафанах, с пуговицами, идущими до низу, и с черными миткалевыми платками на головах, закалывающимися у самого подбородка, вследствие чего лицо представляется как бы вставленным в черную рамку. Встречаются дома (а таких чуть ли даже не большинство), в которых живут исключительно одни женщины. И весь этот женский люд движется как-то чинно и истово по улицам, вследствие чего и самый город приобретает церемонно-унылый характер. Ни пьянства, ни драк не заметно, почему даже самый откупщик, обыкновенно душа и украшение уездного общества, угрюмо и озлобленно выглядывает из окон каменных палат своих.
Но обращаюсь к запискам Филоверитова.
I
-- Ваше высокоблагородие немедленно приступить изволите? -- спросил меня исправник Маслобойников в ту самую минуту, как я вылезал из тарантаса с намерением направиться к станционному дому, расположенному в самом центре города С ***.
Маслобойников -- небольшой, но коренастый мужчина, рябой и безобразный, с узеньким лбом, чрезвычайно развитым затылком и налитыми кровью глазами. Он беспрестанно отирает пот, выступающий на его лице, но при этом всякий раз отворачивается и исполняет это на скорую руку. Когда ему сообщают что-нибудь по делу, в особенности же секретное, то он всем корпусом подается вперед, причем мнет губами, а глазами разбегается во все стороны, как дикий зверь, почуявший носом добычу. Впрочем, он не прочь иногда прикинуться простачком и рассказать игривый анекдотец, особливо если дело касается его служебной деятельности; но все эти анекдоты приобретают, в устах его, какой-то мрачный характер.
Меня изумило, во-первых, то, каким образом Маслобойников очутился у станционного двора в такую именно минуту, когда я подъехал к нему, во-вторых, то, каким образом он вызнал не только о характере моего поручения, но, по-видимому, и о самом предмете его. Я не мог воздержаться, чтобы не выразить моего изумления.
-- Помилуйте, ваше высокоблагородие, мы вас уж с утра поджидаем, -- отвечал он весьма хладнокровно, -- с час назад и гонец с последней станции прискакал, где вы изволили чай кушать.
И при этом на лице его показалась какая-то бесцветная, но отвратительно-проницательная улыбка, которая привела меня в невольное смущение.
-- Странно! -- сказал я, чтобы сказать что-нибудь.
-- Помилуйте-с, по мере силы-возможности стараемся облегчать вашим высокоблагородиям-с, -- произнес он скороговоркой, глядя на меня исподлобья и как-то странно извиваясь передо мною, -- наш брат народ серый, мы и в трубу, и в навоз сходим-с... известно, перчаток не покупаем.
-- Да ведь здесь город, -- сказал я, -- каким же образом вы, а не городничий...
-- Они, ваше высокоблагородие, человек слабый, можно сказать, и в уме даже повредившись по той причине, что с утра, теперича, и до вечера в одном этом малодушестве спокойствие находят... Да и дело-то оно такое-с, что хоша они (то есть скитницы) и не в уезде, а все словно из уезда порядком в город не водворены, так мы, то есть земский суд-с, по этому самому случаю и не лишаем их своего покровительства... Мы насчет этого имели уж с Иваном Макарычем (городничим) материю, что будто бы их супруга очень уж оскорбляются, что этим делом не они, а мы заправляем-с... ну, да ихнее дело дамское; им, конечно, оно и невдомек, почему и как обращение земли совершается... Так прикажете приступить? -- повторил он, возвращаясь к делу.
-- Да я полагаю, что можно и завтра...
-- Помилуйте, ваше высокоблагородие, -- произнес он с таинственным видом, наклонившись ко мне, -- часа через два у них, можно сказать, ни синя пороха не останется... это верное дело-с.
-- Да ведь теперь и ночь скоро...
-- Это нужды нет-с: они завсегда обязаны для полиции дом свой открытым содержать... Конечно-с, вашему высокоблагородию почивать с дорожки хочется, так уж вы извольте мне это дело доверить... Будьте, ваше высокоблагородие, удостоверены, что мы своих начальников обмануть не осмелимся, на чести дело сделаем, а насчет проворства и проницательности, так истинно, осмелюсь вам доложить, что мы одним глазом во всех углах самомалейшее насекомое усмотреть можем...
-- Нет, уж у меня свой расчет есть, чтобы начать дело завтра.
-- Слушаю-с.
-- Только если вы что-нибудь с своей стороны узнаете относящееся до дела, то предуведомьте меня.
-- Слушаю-с.
-- Да вот еще: завтра к ночи должны сюда прибыть люди, так вы поставьте кого-нибудь у заставы... понимаете? чтоб их в городе не видали.
-- Слушаю-с.
Он встал, чтобы откланяться, и направил было к двери шаги свои, но с половины комнаты воротился.
-- Имею сообщить вашему высокоблагородию нечто весьма секретное, -- сказал он, подходя ко мне, и потом шепотом прибавил: -- Ваше высокоблагородие до Мавры Кузьмовны дело иметь изволите?
-- Да ведь вы знаете: зачем же спрашивать?
-- Извините, это точно-с... Я тоже до нее хоша в настоящий момент и не имею касательства, однако на сих днях безотменно иметь таковое намерен.
-- По какому же случаю?
-- По предмету о совращении, так как по здешнему месту это, можно сказать, первый сюжет-с... Вашему высокоблагородию, конечно, небезызвестно, что народ здесь живет совсем необнатуренный-с, так эти бабы да девки такое на них своим естеством влияние имеют, что даже представить себе невозможно... Я думал, что ваше высокоблагородие прикажете, может, по совокупности...
-- А у вас заведено разве уж дело?
-- Никак нет-с; дело это, так сказать, еще в воображении...
-- Почему же вы думаете, что оно из области вашего воображения непременно должно перейти в область действительности?
-- Следим... шестую неделю, можно сказать, денно и нощно следим... так как же ему не быть-то-с? Это все одно что бабе понести, да в десятый месяц не родить-с...
-- В таком случае, если что-нибудь будет, то сообщите мне, а я приобщу к своему делу... да вы об моем-то деле знаете?
-- Помилуйте-с, ваше высокоблагородие.
-- Однако ж?
-- Помилуйте-с, ваше высокоблагородие.
-- А Мавра Кузьмовна знает?
-- В этом, ваше высокоблагородие, будьте без сумнения-с; гонец прямо к ней в дом и прискакал.
-- Однако ж это неприятно.
-- Ничего, ваше высокоблагородие.
-- Как ничего? Она может принять свои меры, будет запираться.
-- Меры она точно что принять может-с, да и запираться будет непременно, однако на это обращать внимания не следует, потому как с ними один разговор -- под арест-с, а там как бог рассудит... А впрочем, вашему высокоблагородию насчет этого дела и опасаться нельзя-с, потому как тут и истцы налицо...
-- Ну, а ваше дело в чем же состоит?
-- Нет-с, уж позвольте до завтрева... по той причине, что у вашего высокоблагородия уж и глазки слипаются, а наша история длинная и до завтрева не убежит.
Мы расстались.
II
Город С ***, в котором мне пришлось производить следствие, принадлежит к числу самых плохих городов России. Если он расположился, или, лучше сказать, разлезся на довольно большом пространстве, то нельзя сказать, чтобы к этому была какая-либо иная побудительная причина, кроме того, что русскому человеку вообще простор люб. Например, дом мещанина Карпущенкова занимает всего-навсе двадцать пять квадратных сажен, но зато под дворовым участком, принадлежащим тому же мещанину, наверное отыщется сажен тысячу. Спросите у Карпущенкова, зачем ему такое пространство земли, из которой он не извлекает никакой для себя выгоды, он, во-первых, не поймет вашего вопроса, а во-вторых, пораздумавши маленько, ответит вам: "Что ж, Христос с ней! разве она кому в горле встала, земля-то!" -- "Да ведь нужно, любезный, устраивать тротуар, поправлять улицу перед домом, а куда ж тебе сладить с таким пространством?" -- "И, батюшка! -- ответит он вам, -- какая у нас улица! дорога, известно, про всех лежит, да и по ней некому ездить".
Таким образом прозябает это грустное племя, вне всяких понятий о красоте и удобстве прямых линий. Вообще, в редких еще городах России земля имеет какую-нибудь ценность. Мещане и даже крестьяне приобретают огромные дворовые участки за бесценок, а часто и задаром, то есть самовольно, и все последствия такого приобретения ограничиваются выстройкой какой-нибудь бани, в которой ютится хозяин с семейством, и обнесением участка плетнем или забором. От этого такое множество пустырей, которые придают нашим городам нестерпимо тоскливый вид.
Многие благонамеренные начальники старались превозмочь это тупое равнодушие жителей к их собственным выгодам и удобствам. Когда князь Лев Михайлыч [См. выше. Филоверитов был один из фаворитов князя. (Прим. Салтыкова-Щедрина.)] приехал в губернию, то первым делом его было написать, "чтобы в городах непременно были заведены мостовые и чтобы дома возводимы были в два этажа и, по возможности, каменные". Однако успех не соответствовал ожиданиям, потому что князь все-таки кроток очень. Тут надобно льва, который, невзирая ни на что, мог бы настоять.
Только к центру, там, где находится и базарная площадь, город становится как будто люднее и принимает физиономию торгового села. Тут уже попадаются изредка каменные дома местных купцов, лари, на которых симметрически расположены калачи и баранки, тут же снуют приказные, поспешающие в присутствие или обратно, и, меланхолически прислонясь где-нибудь у ворот, тупо посматривают на базарную площадь туземные мещане, в нагольных тулупах, заложив одну руку за пазуху, а другую засунув в боковой карман.
На другой день по приезде в С*** я ранним утром отправился к Мавре Кузьмовне.
У меня был свой план; к сожалению, я должен был отказаться от выполнения некоторых частей его. Я хотел остановиться в городе инкогнито, прикинуться этак мещанином, желающим получить "просвещение", и выведать все дело исподволь. На этот конец было у меня припасено и соответственное одеяние, как-то: тулупчик дубленый, азям, сапоги русские и проч.; но появление Маслобойникова и заверение, что Кузьмовна меня ожидает, рассеяли в прах мои надежды. Во всяком случае, я вынужден был если не совершенно отказаться от своего плана, то подвергнуть его изменениям. Но и теперь, прежде всего, я рассчитывал на то обстоятельство, что хотя, быть может, и знает Мавра Кузьмовна, что имеет наехать чиновник, но знает это смутно, не имея настоящего понятия ни о цели приезда, ни о намерениях чиновника. В таком случае, думал я, можно будет сказать, что я имею поручение сделать дознание об истинном состоянии раскола или что-нибудь подобное. Руководители и руководительницы этого дела охотно подаются на эту удочку, если взяться за нее умеючи. Натура человеческая до крайности самолюбива, и если, ловко набросив на свое лицо маску добродушия и откровенности, следователь обращается к всемогущей струне самолюбия, успех почти всегда бывает верен. Тут охотно выкладываются на стол все самые сокровенные вещи, а ради красного словца даже и прилыгается малость; следовательно, остается только на ус мотать. Тут же могут быть кстати употреблены и другие невинные средства, внушающие доверенность. Таким образом можно, например, направить речь издалека о собственных делах Мавры Кузьмовны, поприласкать ее (посадить), начать слегка соболезновать и вообще "беседовать разумно", сбросив с себя всякую официяльность и пригнув себя к одному уровню с почтенною старухой. Я знавал следователей весьма благонамеренных, которые своим неумением обращаться с живым материялом, щекотливостью, с которою они относились к темным сторонам жизни, с первого же шагу возбуждали полное недоверие подсудимого и, разумеется, не достигали никаких результатов. С другой стороны, знавал я и таких следователей, которые были, что называется, до мозга костей выжиги, и между тем сразу внушали полное доверие к себе потому только, что умели кстати ввернуть слово "голубчик", или потрепать подсудимого по брюху, или даже дать ему, в шутливом русском тоне, порядочную затрещину в спину -- полицейская ласка, имеющая равносильное значение с словом "голубчик".
Я следователь благонамеренный и добиваюсь только истины, не имея при этом никаких личных видов; следовательно, я не только имею право, но и обязан изыскать все средства, чтобы достигнуть этой истины. Конечно, я не стану давать любезных затрещин -- на это я не способен, -- но и кроме затрещин есть целый ряд полицейских хитростей, который может быть употреблен в дело. Мне скажут, может быть, что это нравственное вымогательство (другие, пожалуй, не откажутся употребить при этом и слово "подлость"), но в таком случае я позволяю себе спросить, какие же имеются средства к открытию истины?
Итак, мне нужна была доверенность Мавры Кузьмовны; необходимо было вызвать ее на откровенность, и если бы она, в частном и любезном разговоре (особливо же при свидетелях), высказала то, что для меня потребно, в таком случае я не прочь был бы оформить эту любезную откровенность законным порядком. Само собою разумеется, что в дальнейшем развитии дела могут быть пущены в ход разного рода неожиданности: чтение некоторых писем, появление из задних дверей интересных лиц и т. п. И все это в пользу истины, только истины...
Полный этих намерений, я решился лично посетить Мавру Кузьмовну, чтобы ее, так сказать, сразу ошеломить моею благосклонною внимательностью. Сверх того не лишне было ознакомиться и с характером моей новой пациентки, чтобы приспособиться к нему и заметить ту струнку, на которую удобнее можно действовать.
Дом Мавры Кузьмовны, недавно выстроенный, глядел чистенько и уютно. Дверь из сеней вела в коридор, разделявший весь дом на две половины. Впоследствии я узнал, что этот коридор был устроен не случайно, а вследствие особых и довольно остроумных соображений.
Дело в том, что по обеим сторонам коридора были расположены горницы, из которых каждая имела свой особый ход и образовала род кельи, не имевшей с соседнею комнатой иного сообщения, как через коридор. Первые и ближайшие к сеням, а следовательно и к свету, горницы имели хозяйственное назначение; тут были: стряпущая, кладовые и т. д. Но чем далее нужно было углубляться в коридор, тем тусклее достигал свет, так что с трудом можно было распознать даже двери; тут-то и были покои самой Мавры Кузьмовны, жившей вместе с племянницей и несколькими посторонними старухами, которых она пропитывала на старости лет. Затем, в самой глубине коридора, там, куда свет совершенно почти не досягал, было нагорожено множество мелких чуланчиков, которых не было возможности даже днем нащупать без помощи свечи.
-- Как же вы-то успеваете вдруг осмотреть все эти закоулки? -- спрашивал я у Маслобойникова, когда, впоследствии, сам ближе познакомился с устройством этого рода домов.
-- Это точно-с, что поначалу дело было трудное, -- отвечал он, -- в первый раз, как был я еще неопытен, они меня лихо надули. Пришел я к ним этта с обыском; ну, она меня и встречает, такая, знаете, ласковая... "Милости просим, говорит, Иван Демьяныч, удостойте старуху своим посещением", -- а сама, ваше высокоблагородие, и отворяет мне первую-то дверь. Ну, я с дураков-то и вошел -- кухня-с; разумеется, чумички, лохани, ведра, все как следует. "Да ты показывай, говорю, мне настоящее дело". -- "А вот, говорит, пожалуйте". И привела меня насупротив в кладовую. Ну, точно, вижу полна горница сундуков и мешков -- надо все это свидетельствовать. С час я тут бился, рассматривал: ну, разумеется, кроме солоду, муки да крупы, ничего не нашел, а покуда я тут копался, в других-то комнатах и поприбрали... С тем и ушел, что ничего найти не мог... "Ну, говорю, спасибо, голубушка, за науку". -- "Ничего, говорит, на здоровье, родимый!" А у самой от смеху даже нутро все колыхается, у поганки. Ну, да добро, мол, за мной не за кем другим: наука не пропадет. Пришел и опять случай: "Нет, думаю, шалишь, баба!" -- и прямо, знаете, как ворвался, в самую, что называется, в глубь, покуда в стену лбом не наткнулся... тут и замер-с... А между тем на прочих пунктах свое распоряжение идет; двери все настежь, и как кого смертный час застал, так и пребывай; застынь, не шевелись... Ну и точно-с, диковинные иногда вещи в этих чуланчиках находишь...
Но возвращаюсь к рассказу. Встретила меня в сенях какая-то старуха, должно быть стряпка, которая, взглянув на мои пуговицы, побледнела и как-то странно вся всколыхалась. Испуг, очевидно, парализировал всю ее мыслящую силу, потому что она безотчетно топталась на одном месте, как бы недоумевая, оставаться ей или бежать.
-- Дома Мавра Кузьмовна? -- спросил я.
-- Ась? -- закричала она во всю мочь, с очевидным намерением, чтобы голос ее как-нибудь дошел по назначению.
Я повторил вопрос.
Она опять затопталась на месте, а губы ее начали судорожно подергиваться.
-- Дома Мавра Кузьмовна? -- крикнул я ей в самое ухо.
-- Не упомню я, батюшка, не упомню... кажется, не бывала... стара я, ваше сиятельное благородие, больно стара да чтой-то нынче и памятью-то бог изобидел... об ком это изволишь спрашивать?
Сознавая бесполезность дальнейших расспросов, я хотел было идти далее, в тот знаменитый коридор, о котором говорено выше, как вдруг, совершенно для меня неожиданно, старуха, как сноп, повалилась поперек двери.
-- Батюшки! спасители! режут! -- вопила она, уцепившись за фалды моего вицмундира, -- отец родной! не ходи, не губи своей душеньки!
На этот крик выбежала баба высокая и плотная, в синем сарафане, подвязанная черным платком. Это была сама хозяйка дома, которая вмиг поняла, в чем дело.
-- Мать Меропея, мать Меропея! -- сказала она ласковым, но твердым голосом, подходя к нам, -- полно, не блажи, пусти его благородие.
Старуха встала, глухо кашляя и злобно посматривая на меня. Она одною рукой уперлась об косяк двери, а другою держала себя за грудь, из которой вылетали глухие и отрывистые вопли. И долгое еще время, покуда я сидел у Мавры Кузьмовны, раздавалось по всему дому ее голошение, нагоняя на меня нестерпимую тоску.
-- Милости просим, ваше благородие! -- говорила между тем Мавра Кузьмовна, -- милости просим к нам в горницу... Аннушка! отворь-ка дверь: посветлее барину идти будет! Уж вы нас, сударь, не обессудьте за старуху-то! Здесь мы собрались народ всё старый да пуганый; мужчин никого нет -- ну, и думается, что лихой человек старух сирых изобидеть хочет... А таким гостям, как ваше благородие или хочь и Иван Демьяныч (Маслобойников), мы оченно завсегда рады... Или, может, ваше благородие, изначала с обыском пройдете? -- прибавила она, как-то масляно засматривая мне в глаза.
-- Нет... да разве ты не видишь, что и понятых со мной нет?
-- Так-с; а то мы завсегда готовы... У нас, ваше благородие, завсегда и ворота, и горницы все без запору... такое уж Иван Демьяныч, дай бог им много лет здравствовать, заведение завел... А то, коли с обыском, так милости просим хошь в эту горницу (она указывала на кладовую), хошь куда вздумается... Так милости просим в наши покои.
-- А эта Меропея у тебя в стряпках, что ли, живет? -- спросил я.
-- В стряпках, сударь, в стряпках... что ж, это, кажется, сударь, не запрещается?..
Мы вошли в это время в горницу, чистую и светлую. На полу разостлан белый холст, а стены гладко выструганы; горница разделена перегородкой, за которой виднелась кровать с целою горой перин и подушек и по временам слышался шорох. Перед диваном, на столе, стояла закуска, которую впопыхах, очевидно, забыли прибрать. Закуска была так называемая дворянская, то есть зачерствелый балык, колбаса твердая как камень и мелко нарезанные куски икры буроватого цвета; на том же подносе стоял графин с белою водкой и бутылка тенерифа.
-- Милости просим беседовать! -- сказала Мавра Кузьмовна, усаживая меня на диван.
Но мы были не одни; кроме лиц, которые скрылись за перегородкой, в комнате находился еще человек в длиннополом узком кафтане, с длинными светло-русыми волосами на голове, собранными в косичку. При появлении моем он встал и, вынув из-за пояса гребенку, подошел пошатываясь к зеркалу и начал чесать свои туго связанные волосы.
Бледно-желтое, отекшее лицо его, украшенное жиденькою бородкой, носило явные следы постоянно невоздержной жизни; маленькие голубые и воспаленные глаза смотрели как-то слепо и тупо, губы распустились и не смыкались, руки, из которых одна была засунута в боковой карман, действовали не твердо. Во все время, покуда продолжалось причесывание волос, он вполголоса мурлыкал какую-то песню и изредка причмокивал языком и губами.
-- Это что за человек? -- спросил я хозяйку. Мавра Кузьмовна желала улыбаться, но губы ее только судорожно двигались и никак не складывались в улыбку; она постоянно заглядывала мне в глаза, как бы усиливаясь уловить мою мысль, а своим собственным глазам старалась придать выражение беспечности и даже наивной веселости.
-- Это, ваше благородие, так... уволенный, ваше благородие... он перед вами только что выпить зашел... это ведь, кажется, можно?
Последние слова были сказаны не без иронии.
-- Да чтой-то, Михеич, хошь бы ты почтение его благородию отдал, -- продолжала Мавра Кузьмовна, -- а то мурлыкаешь там невесть что.
Неизвестный обернулся, подошел к столу и уставил бессмысленный взор на водку.
-- А что, благодетельница, повторить можно? -- спросил он сиплым голосом и слабо трясясь всем телом.
-- Что ты за человек? -- спросил я его. Он посмотрел на меня мутными глазами.
-- То есть... ваше благородие желаете знать, каков я таков человек есть? -- сказал он, спотыкаясь на каждом слове, -- что ж, для нас объясниться дело не мудреное... не прынц же я, потому как и одеяния для того приличного не имею, а лучше сказать, просто-напросто, я исключенный из духовного звания причетник, сиречь овца заблудшая... вот я каков человек есть!
Он остановился, сначала глубоко вздохнул, но потом вдруг фыркнул и, изобразив из себя ферт, внезапно перешел из довольно густого баритона в самый тонкий, маслянистый тенор.
-- Не возмогу рещи, -- продолжал он, вздернув голову кверху и подкатив глаза так, что видны делались одни воспаленные белки, -- не возмогу рещи, сколь многие претерпел я гонения. Если не сподобился, яко Иона, содержаться во чреве китове, зато в собственном моем чреве содержал беса три года и три месяца... И паки обуреваем был злою женою, по вся дни износившею предо мной звериный свой образ... И паки обуян был жаждою огненною и не утолил гортани своей до сего дня...
-- Вы его не обессудьте, ваше благородие, -- прервала Мавра Кузьмовна, -- он у нас уж такой от рождения, в уме оченно уж недостаточен... Полно, полно, Михеич; пора, чай, и к домам.
-- Нет, Мавра Кузьмовна, уж коли язык сам возговорил, стало быть, говорить ему надо, и вы мне не препятствуйте... Ваше высокоблагородие! вот как пред богом, так и перед вами... наг и бос, нищ и убог предстою. Прошу водки -- не дают! Прошу денег -- не дают! Стало быть, за что же я, за что же...
-- Да; не дают тебе водки! и то уж почесть кабак внутре-то у тебя завелся! -- прервала его хозяйка, стараясь улыбнуться, но с очевидным озлоблением.
-- Не препятствуйте, Мавра Кузьмовна! я здесь перед их высокоблагородием... Они любопытствуют знать, каков я есть человек, -- должон же я об себе ответствовать! Ваше высокоблагородие! позвольте речь держать! позвольте как отцу объявиться, почему как я на краю погибели нахожусь, и если не изведет меня оттуду десница ваша, то вскорости буду даже на дне оной! за что они меня режут?
И он неожиданно подбежал к окну и, отворив его, неистовым голосом закричал:
-- Православные! режут!
Мавра Кузьмовна побледнела. Сцена эта видимо ее беспокоила с самого начала; но при таком неожиданном окончании она до такой степени смутилась, что как будто бы совершенно позабыла обо мне.
-- Ах ты, господи! Вот уж шестую неделю так-то с ним маемся! ин искать уж другого! -- повторяла она про себя, -- одною этою водкой всю келью испоганил, антихрист ты этакой!
И, уцепившись за полы его кафтана, она тянула его от окна. Во время этой суматохи из-за перегородки шмыгнули две фигуры: одна мужская, в вицмундирном фраке, другая женская, в немецком платье. Мавра Кузьмовна продолжала некоторое время барахтаться с Михеичем, но он присмирел так же неожиданно, как и пришел в экстаз, и обратился к нам уже с веселым лицом.
-- Ну, полноте, полноте, Мавра Кузьмовна, -- сказал он, с улыбкою глядя на хозяйку, которая вся тряслась, -- я ничего... я так только покуражился маленько, чтоб знали его высокоблагородие, каков я человек есть, потому как я могу в вашем доме всякое неистовство учинить, и ни от кого ни в чем мне запрету быть невозможно... По той причине, что могу я вам в глаза всем наплевать, и без меня вся ваша механика погибе.
Старуха была ни жива ни мертва; она и тряслась, и охала, и кланялась ему почти в ноги и в то же время охотно вырвала бы ему поганый его язык, который готов был, того и гляди, выдать какую-то важную тайну. Мое положение также делалось из рук вот неловким; я не мог не предъявить своего посредничества уже по тому одному, что присутствие Михеича решительно мешало мне приступить к делу.
-- Что ты за человек и по какому случаю находишься здесь? -- спросил я снова Михеича, -- отвечай!
Он улыбнулся и поглядел на Мавру Кузьмовну, которая с пытливым беспокойством смотрела ему в глаза.
-- А хочешь расскажу? -- сказал он.
Прошло несколько минут томительного ожидания.
-- Ну, не трясись! так уж и быть, не скажу! только завтра смотри у меня! перевертываться живей! теперь уж всего два денька и погулять-то осталось! Прощай, старуха! припасай водки!
И, взявши картуз, он тут же в комнате надел его на голову и побрел пошатываясь к двери. Мавра Кузьмовна вздохнула свободнее и начала креститься.
-- А хорош буду архиерей? -- спросил он, останавливаясь в дверях и растопырив руки фертом.
Мавра Кузьмовна снова заохала.
-- Ну, ну, добро, не трясись! прощенья просим, ваше высокоблагородие! как буду архиереем, безотменно отпущу вам вольная и невольная...
-- Что ж это за человек? -- спросил я Мавру Кузьмовну, когда он вышел.
Она уже оправилась от страха, который нагнала было на нее выходка Михеича, и стояла передо мной довольно спокойно.
-- Не пожалуете ли водочки? -- сказала она, не отвечая на мой вопрос, -- али, может, виноградного... или чайку угодно?
-- Хитришь ты со мной, Мавра Кузьмовна.
-- Зачем, кажется, мне с тобой хитрить, барин! Кажется, хитрить мне с тобой не надо... да просим милости откушать... Аннушка! Аннушка!
-- Отчего ж ты не хочешь сказать, что за человек этот Михеич?
-- Да что сказать-то, ваше благородие? так, праздношатающий, пьяница... его и оттолева-то уж выгнали... где ему настоящее место есть. Ходит по домам да водку пьет... это хоть у кого в городе спросите...
-- Зачем же ты его к себе в дом пускаешь?
-- А коли не пустишь! Сами, чай, видели, каков он есть человек... не пусти, так, пожалуй, и гнездо-то наше огнем разорит. Да выкушайте хоть виноградного-то!
В это время вошла Аннушка, девка лет двадцати пяти, шумя великим множеством туго накрахмаленных юпок; на ней было ситцевое платье декольте, а на руках перчатки, у которых пальцы наполовину обрезаны. Девка, как все вообще русские мещанки, воспитанные на пуховиках и чае, отличалась с виду тою дряблою тучностью, которая почему-то напоминает о китовом жире; лицо у нее было, что называется, форменное: мясистое, круглое, плоское, мягкое, сильно избеленное и с крепко приглаженными волосами, намазанными мусатовскою помадой.
-- Вы меня, тетонька, кликали? -- спросила она, потупляя глаза и произнося слова в нос.
-- Подь, подь сюда, умница, -- сказала Мавра Кузьмовна, которой лицо расцвело при виде этого жирного, белого выкормка, -- вот, батюшка, какую красавицу вырастила... племянница мне будет.
-- Ах, тетонька, вы меня завсегда в конфузию приводите, -- проговорила девица, как будто нехотя подвигаясь вперед.
-- Подь, чего стыдиться-то! подь, касатка, -- барин доброй! Мы здесь, ваше благородие, в дикости живем, окроме приказных да пьяного народу, никого не видим... Было и наше времечко! тоже с людьми важивались; народ всё чистый, капитальный езживал... ну и мы, глядя на них, обхождения перенимали... Попроси, умница, его благородие чайком.
-- Я чаю не буду пить, Мавра Кузьмовна, теперь уже поздно, да и дело мне есть до тебя.
-- Чтой-то, батюшка, уж будто дело горит! дело делом, а чай чаем: выкушай, родимый.
-- Уж сделайте такое ваше одолжение, господни граф, -- пролепетала Аннушка, складывая губы на манер сердца, -- мы завсегда с приезжими учтивыми кавалерами компанию иметь готовы, по той самой причине, что и сами обхождением заимствоваться оченно желаем...
-- Просим выкушать! -- настаивала, с своей стороны, Кузьмовна, -- у меня, сударь, и генералы чай кушивали... Тоже, чай, знаете генерала Гореглядова, Ардальона Михайлыча -- ну, приятель мне был. Приедет, бывало, в скиты, царство ему небесное: "Ну, говорит, Кузьмовна, хоть келью мы у тебя и станем ужотка зорить, а чаю выпить можно"... Да где же у тебя жених-от девался, Аннушка? Ты бы небось позвала его сюда: все бы барину-то поповаднее было.
-- А у вас в доме и свадьба? -- спросил я.
-- Как же, сударь; тоже за благородного Аннушку выдаю: больно уж смирен парень-эт... да позови же Алексея-то Иваныча.
-- Они, тетонька, в присутствие пошли: сказывают, делов оченно много.
-- Как же ты отдаешь племянницу за чиновника? ведь он не дозволит ей в старых-то обычаях оставаться.
-- И, батюшка! об нас только слава этта идет, будто мы кому ни на есть претим... какие тут старые обычаи! она вон и теперича в немецком платье ходит... Да выкушай же чайку-то, господин чиновник!
Нечего делать, я должен был согласиться выпить чаю среди бела дня.
-- Однако признайся, Кузьмовна, -- сказал я, когда Аннушка вышла, -- знала ты, что я сегодня у тебя буду?
Мавра Кузьмовна пристально взглянула на меня и как будто призадумалась.
-- Почем же я тако дело знать могу? -- сказала она немного погодя.
-- Однако вспомни: может быть, и знала.
-- Нет, ваше благородие, нам в мнениях наших начальников произойти невозможно... Да хоша бы я и могла знать, так, значит, никакой для себя пользы из этого не угадала, почему как ваше благородие сами видели, в каких меня делах застали.
-- Это-то меня и удивляет, что ты знала, что я должен у тебя быть, и не приготовилась...
-- Кабы знать, отчего бы не приготовиться.
-- А к кому же вчера вечером шалдежский Афанасий приезжал?
Она посмотрела на меня с таким наивным изумлением, что я не мог не расхохотаться. Она тоже улыбнулась.
-- Какой же это такой Афонасий? Кажется, я никакого Афонасья словно и не знаю.
-- Полно, старуха, ведь Афанасий-то у исправника в арестантской сидит; он уж сознался.
-- Нет, батюшка ваше благородие, уж коли на то пошло, так я истинно никакого Афонасья не знаю... Может, злые люди на меня сплётки плетут, потому как мое дело одинокое, а я ни в каких делах причинна не состою... Посещению твоему мы, конечно, оченно ради, однако за каким ты делом к нам приехал, об эвтом мы неизвестны... Так-то, сударь!
-- Мне нужно бы кой об чем спросить тебя.
-- Спрашивай, сударь, спрашивай, я завсегда готова. Известно, ваше дело спрашивать, а наше отвечать. Только об чем же ты спрашивать-то будешь?
-- Да нужно мне кой об чем узнать... Изволишь ты видеть, много уж вашего стада здесь прибывает...
-- Кто же это прибывает... кажется, мы все старые: мы, сударь, никого ведь неволить ни к себе, ни от себя не можем... Да что ж ты ко мне-то, сударь? Ведь тут, кажется, и мужчины есть -- вон хоть бы Иван Мелентьич...
-- Да ведь ты, Мавра Кузьмовна, в скитах живала, начальницей была.
-- Оно, конечно, живала... игуменьей тоже прозывали... Ну, что ж, спрашивай, сударь, я отвечать тебе могу.
-- Нет, об этом надо ладком поговорить -- приходи как-нибудь ко мне, а теперь некогда, другие дела есть... А что, Кузьмовна, кабы ты эти дела-то оставила? -- прибавил я как будто стороною.
-- Какие же это дела, сударь? -- спросила она с наивным изумлением.
-- Ну, да известно какие: раскол. За тобой бы -- поди вся здешняя сторона старину бы оставила.
-- Чтой-то, будто я этому делу причинна стала? Кажется, и до меня люди были, и после меня будут... чай, у всякого свой ум есть.
-- А славно было бы...
-- Нет уж, сударь, этот разговор нужно оставить, -- сказала она серьезно.
-- Да ведь я жалеючи тебя говорю, старуха.
-- Оно так... может, и добрый ты барин, да об этом разговаривать нам уж не приходится, потому как, значит, слова занапрасно терять будем... а вот порассказать как и что -- это дело возможное...
III
Я воротился домой, предварительно условившись с Маврой Кузьмовной насчет "нового свидания". Но загадочное лицо Михеича мучило меня, и я непременно хотел объяснить себе его. В это самое время вошел ко мне Маслобойников, но вошел на цыпочках и, предварительно засвидетельствования мне почтения, заглянул в замочную скважину двери, ведущей в комнату, в которой помещались хозяева.
-- Изволили видеть? -- спросил он меня шепотом.
-- Кого?
-- А Михеича-с?
-- Да; скажите, пожалуйста, что это за человек такой?
-- Наш-с... уж шесть недель в предмете имеем-с... только говорить-то здесь неудобно-с... хозяева-с...
И он снова на цыпочках перешел через всю комнату к враждебной двери, отворил ее и посмотрел. Оказалось, что соседняя комната пуста.
-- Осмелюсь доложить вашему высокоблагородию, -- начал он, воротившись на прежнее место, -- что нам все ихние прожекты в самой подробности завсегда известны, потому что мы от этих ихних прожектов, можно сказать, все наше пропитание имеем. Теперича главный у них сюжет в том состоит, чтобы как можно попа себе добыть. Беглых не навертывается, старые повымерли, -- вот-с они и истаевают. Прошел нынче слух, будто бы у них и архиереи завелись, и ездят якобы эти архиереи скрытно по всем местам, где этот разврат коренится; сказывают, что и к нам посулил быть. По здешнему месту, всему ихнему делу голова эта самая Мавра Кузьмовна, которую вы давеча видеть изволили. Жила она прежде в скитах и была в котором-то из них чуть ли не настоятельницей обители. Баба подлинно умная и всем этим стадом вертит, как ей желается. В недавнее время, с тех пор как скиты эти разогнали, приписалась она сюда в мещанки и завела здесь свою фабрику. Только смею доложить, что если эти скиты не будут опять в скором времени сформированы, так можно поручиться, что и весь этот край разврата не минует, по той причине, что эти "матери" по всем деревням, можно сказать, как вороны разлетелись и всюду падаль клюют-с. В прежнее время, как они все в одном гнезде каркали, оно, конечно, пейзаж был не пригож, да, по крайности, все на виду и на счету были. Приедет, бывало, к ним с ярмарки купчина какой -- первое дело, что благодарности все-таки не минем (эта у нас статья, как калач, каждый год бывала), да и в книжку-то, бывало, для памяти его запишем: ну, и пойдет он на замечание по вся дни живота. А нынче совсем и надзору за ними не может быть, потому что везде они во всяком месте, словно черви расползлись. Только и пропитываешься, что частными случаями... там, слышишь, книжки проявились, там ночным временем для своих делов соберутся, в другом месте брак совершили гнусным манером без повенчания -- ну, и действуешь, смотря по силе-возможности.
Говоря это, Маслобойников смотрел мне в глаза как-то особенно искательно, как будто усиливаясь угадать, какое впечатление производят на меня его слова. Очевидно, он желал повеселить меня, но вместе с тем оставлял у себя, на всякий случай, в запасе оговорку: "Помилуйте, дескать, ваше высокоблагородие, я только к слову пошутить желал".
-- Так вот-с эта Мавра Кузьмовна, -- продолжал он, -- и задумала учредить здесь свою эпархию Скитов ей, пожалуй, не жалко, потому что в ту пору хоть и была она в уваженье, да все как-то на народе ее не видать было; там, что ни выдет, бывало, все-таки больше не к ней, а ко всем скитам сообща относят, ну, а теперь она действует сама собой, и у всех, значит, персонально на виду. Я даже думаю, ваше высокоблагородие, что со временем из нее отличный полицейский сыщик выдет. Этих примеров видали по нашему месту очень довольно, потому как и народишко этот дрянной, и дозволь ты ему только свои барыши наблюдать, так он, пожалуй, и Христа-то продать готов, не токма что своего брата, -- самые то есть алтынники. Скажу к слову хошь про себя. Познакомился я этта с матерью Варсонофией -- тоже преехидная баба и в скитах большим почтеньем пользовалась. Было как-то у меня до нее небольшое дело касательно совращения, только очень уж она ловка, на мякину никак не подденешь. Вот-с я и надумал: если нельзя ее по-християнски облупить, так, по крайности, хошь бы на будущее время от нее польза была. Окончивши спросы, подхожу это к ней.
-- А что, -- говорю, -- мать, ведь мы с тобой, кажется, друг дружку понимать можем?
-- Можем, -- говорит.
-- Тебе, мол, будет, чай, сподручнее, как ни от кого в твоей промышленности помешательства не будет?
-- Это точно, что сподручнее.
-- Ну, а мне, -- говорю, -- сподручнее, коли у меня по вашей части делов больше будет... Понимаешь?
-- Понимаю, -- говорит, -- только уж не будет ли это оченно зазорно, да и другие-то чтоб не заприметили, что ты будто одну меня в покое оставляешь?
-- На этот счет, -- говорю, -- будь без сумнения, потому что мы и у тебя примерные тревоги делать будем... ладно, что ли?
-- Право, -- говорит, -- не знаю: как-то уж оченно оно зазорно будет...
А через два дня и дала, сударь, знать, что у них на селе у такого-то мужичка "странник" остановился.
Вот-с эта же самая Варсонофия уведомила меня месяца с два тому назад, что к Мавре Кузьмовне какой-то купчина московский участил ездить и что свиданья у них бывают на дому у ней, Варсонофии, в селе версты за три отсюда. Хорошо-с. Дал я им время снюхаться, войти, так сказать, во вкус, да, выбравши этак ночку потемнее, и отправился самолично в это самое село. Верьте совести, ваше высокоблагородие, что собственными ногами весь вояж сделал, даром что дело было зимнее. И чего я, сударь, шомши дорогой, не передумал! Первое дело, что никто ей этой Варсонофии, в душу не лазил: стало быть, дело возможное, что она и продаст; второе дело, что весь я, как есть, в одном нагольном тулупишке, и хоша взял с собою пистолет, однако употребить его невозможно, потому как убийство совершать законом запрещается, а я не токмо что на каторгу, а и на покаянье идти не желаю; третье дело, стало быть, думаю, они меня, примерно, как тухлое яйцо раздавить там могут вгорячах-то. Однако, перекрестившись, не назад, а вперед-с пошел. А там у Варсонофии мне и местечко такое было приуготовлено, около печки, так, чтобы только стать было можно, а дышать уж как бог помилует. Одних тараканов, ваше высокоблагородие, такое там множество увидел, что даже удивительно, как они живого меня не съели. Часов этак, по-нашему, около одиннадцати приходит это купец, а следом за ним и Мавра Кузьмовна и еще человек с ней, этот самый Михеич, которого вы видеть изволили.
-- А не знаете ли вы, как купца звали? -- спросил я.
-- По фамилии не могу знать-с, а величали его тут Михайлом Трофимычем. (Скажу здесь мимоходом, что я доискивался некоего Михаила Трофимыча Тебенькова, который, давши, по сношению моему с NN полицией, недостаточное показание, неизвестно куда потом скрылся. Можно себе представить мое радостное изумление при словах Маслобойникова.)
-- Продолжайте, продолжайте, -- сказал я Маслобойникову.
-- Только пришли они это, поздоровались.
-- Ну вот, -- говорит Мавра Кузьмовна, -- и еще новобранца привела, и в грамоте доволен, и с книгами обращение иметь может, и по крюкам знает, и демественному обучался -- молодец на все руки: какого еще к черту попа желать надоть!
-- В семинарии до реторики досягал, -- вступился тут Михеич, -- и если бы не воля родителей, которые уже в престарелых летах обретаются, то вероятия достойно, что был бы теперь человек...
-- Да чем же ты и теперь не человек, братец? -- сказал купец, -- во всех статьях...
-- Это точно, что человек, но не смею скрыть пред лицом столь почтенной особы, что имею единую слабость...
-- Водку, что ли, пить любишь?
-- Справедливо сказать изволили... Но ныне, будучи просвещен истинным светом и насыщен паче меда словесами моей благодетельницы Мавры Кузьмовны, желаю вступить под ваше высокое покровительство. Ибо не имею я пристанища, где приклонить главу мою, и бос и наг, влачу свое существование где ночь, где день, а более в питейных домах, где, в качестве свидетеля, снискиваю себе малую мзду.
-- А как же насчет водки-то, молодец? -- спросил купец, -- ведь это малодушество, чай, бросить придется?
-- Об этом предмете у нас с моей благодетельницей такой уговор был: чтоб быть мне в течение шести недель всем довольну, на ихнем коште, да и в водке б отказу мне не было, потому как, имея в предмете столь великий подвиг, я и в силах своих должен укреплен быть.
-- Да ты уж и нынче, кажется, на ногах-то не больно тверд, молодец?
-- По милости благодетельницы, точно что горло будто промочил маленько...
-- Да заодно и сам уж промок, -- прибавила весело Мавра Кузьмовна, -- так вот, отцы вы наши, как я об нашем деле радею, каких вам слуг добываю, что из-за рюмки сивухи, а уж не из чего другого, рад жизнь потерять.
-- Это точно, что готов по первому повелению... да вот, отцы вы наши, денег бы триста рублей надо...
-- Уж и триста! вот мать Магдалина (Мавра Кузьмовна) по двугривенничку выдавать будет.
-- Нет уж, честной господин, по двугривенничку обидно будет.
-- Так ты говори дело, а то триста рублей!..
И условились они тут на полтораста рублей: половину вперед отдать, а половину по совершении.
-- А вы еще ладите, чтоб быть здесь архиерею, -- сказала Кузьмовна, -- мать Варсонофия! своди-тко молодца-то в светелку, а мы здесь втроем по душе потолкуем.
Михеича действительно увели, и остались они втроем. Тут я всего, ваше высокоблагородие, наслушался, да и об архиерее-то, признаться, впервой узнал. Знал я, что они, с позволения сказать, развратники, ну, а этого и во сне не чаял. И кто ж архиерей-то! Андрюшка Прорвин, здешний, ваше высокоблагородие, мещанин, по питейной части служил, и сколько даже раз я его за мошенничества стегал, а у них вот пастырь-с! Даже смеху достойно, как они очки-то втирают!
-- Позвольте, однако ж, -- прервал я, -- по какой же причине они выбрали себе такого бездельника? неужели у них получше людей нет?
-- Как не быть-с! вот хоть бы здесь купец есть, Иван Мелентьев прозывается, -- ну, этот точно что человек, однако, видно, ему не рука -- по той причине, что этому архиерею, будь он хошь семи пядей во лбу, годик, много два поцарствовать, а потом, известно, в тюрьме же гнить придется. Да и для них-то самих, пожалуй, через два-то года корысть в нем не велика, потому как он свою пакость уже исполнит, попов им наставит, так они и сами его хошь с руками выдадут. Никто хороший-то на такой карьер и не соблазняется. Только вот-с купец-от, объявивши Мавре Кузьмовне, что такого-то они архиерея для себя добыли, все, знаете, настаивает, чтоб жить ему в здешнем месте.
-- Здесь, -- говорит, -- нашего християнства вся колыбель состоит, так и пастырю быть тут пригоже.
Ну, а Кузьмовна тоже свой расчет в голове держит: "Не дело, говорит, вы, отцы, затеваете".
-- Помилуйте, матушка Мавра Кузьмовна, да почему же вам теперича этот сюжет поперек стал-с?
-- А потому поперек, что для нас, старинных ваших радетелей, этак-ту, пожалуй, и обидно будет.
-- Почему ж обидно-с? Будьте удостоверены, матушка, что мы насчет содержаниев не постоим-с, потому как мы собственно для християнства тут рассуждение имеем и оченно хорошо понимаем, какие ваши в этом предмете заслуги состоят.
-- Вы вот тамотка все насчет християнства заботу имеете. А ты сперва расскажи, чем оно теперь-то, по-твоему, не хорошо, християнство-то?
-- Да как же-с, матушка! известно, овцы без "просвещения" ходят-с, оно даже и со стороны зазорно!
-- А какого им ляду "просвещения"! ты вот говоришь "просвещение", а они, пожалуй, и приобыкли без "просвещения"-то, так им оно поди и за ересь еще покажется.
-- Помилуйте, как же это возможно? Да уж одно то во внимание примите, что служба какая будет! На одни украшения сколько тысяч пошло-с, лепирии золотые, и все одно к одному-с...
-- Так-то так... ну, и пущай к нам в побывку ездит: это точно, что худого тут нет. Только оставаться ему здесь не след, и вот тебе мое последнее слово, что не бывать этому, какова я на этом месте жива состою
-- Да в чем же вы сомневаться изволите, Мавра Кузьмовна?
-- Господи! жили-жили, радели-радели, и ну-тка, ступай теперь вон, говорят! да вы, отцы, жирны, что ли, уж больно стали, что там обесились! Теперича хоть и я: стара-стара, а все же утроба, чай, есть просит! я ведь, почтенный, уж не молоденькая постничать-то! А то, поди-тка, Андрюшке свое место уступи! ведь известно, не станет он задаром буркулами-то вертеть, почнет тоже к себе народ залучать, так мы-то при чем будем?
Стал было он ее еще уговаривать, однако старуха укрепилась. Сколь ни говорил, обещал даже капитал в ланбарт положить, ничем не пронял. Твердит себе одно: "Не хочу да не хочу!" -- "Я, говорит, не за тем век изжила, чтоб под конец жизни в панёвщицы произойти; мне, говорит, окромя твоего капиталу, тоже величанье лестно, а какой же я буду человек за твоим за Андрюшкой? -- просто последний человек!" На том и порешили, что быть в здешнем месте Андрюшке только наездом и ни во что, без согласия Мавры Кузьмовны, не вступаться. И диво бы они так не решили: купец-от знал, что эта ехидная Маврушка такую власть над этой яичницей имеет, что стоит ей только слово в народ кинуть, так, пожалуй, и Андрюшку-то в колья примут-с.
Тут я узнал, что должен он быть сюда через шесть недель и что к этому времени Мавра Кузьмовна и людей таких должна приискать, чтобы грамотны были... Верьте богу, ваше высокоблагородие, что, когда они ушли, я в силу великую отдохнуть даже мог. Прибежал домой и в ту ж минуту послал секретно за Михеичем; привели мне его, что называется, мертвецки.
-- А что, -- говорю, -- рыло ты пьяное, тоже в попы хочешь?
Как ни был он пьян, однако тут отрезвел и уставил на меня сонные глаза.
-- Ну, -- говорю, -- у меня цыц! пей и блажи сколько душе угодно, а из-под моей власти не выходить! слышишь! Как выдет у вас что-нибудь новенькое, а пуще всего даст свой дух Андрюшка -- живым манером ко мне!
Пал он мне, сударь, в ноги и поклялся родителями обо всем мне весть подавать. И точно-с, с этих пор кажную ночь я уж знаю, об чем у них днем сюжет был... должен быть он здесь, то есть Андрюшка-с, по моему расчету, не завтра, так послезавтрева к ночи беспременно-с.
И диковинное это дело, ваше высокоблагородие! человек я, кажется, к этим делам приобыкший, всякого, что называется, пороху нанюхался, даже самые побои принимал, а теперь вот словно новичок какой, весь кураж потерял-с. В груди будто теснота, спину ломит, даже губы сохнут-с... И чем ближе подступает время, тем все больше и больше будто естество в тебе все вверх поднимается. Точно те времена воротились, как, бывало, около Глафиры Николавниной юпки прохаживался. Ходишь, знаете, бывало, заденешь только, так словно озноб всего прошибет... Даже во сне вижу, как я, их всех накрою, как они, знаете, собрались, и свечи горят-с...
-- Ну, а если не удастся накрыть? -- спросил и. Маслобойников испугался и даже побледнел.
-- Помилуй бог, ваше высокоблагородие, как же этому быть возможно?.. да у меня даже теперь поясница отнялась от одних ваших слов.
-- А как же вы предполагаете распорядиться, если вам это дело удастся?
Маслобойников вздохнул и задумался.
-- Придется по начальству представить, -- сказал он угрюмо и опять задумался.
-- Ведь они, ваше высокоблагородие, -- продолжал он, -- многих тысяч не пожалели бы, только чтоб это дело как ни на есть покрыть! а от начальства какую отраду, кроме огорченья, получишь, сами изволите знать! Да скрыть-то нельзя-с! потому что кто его знает? может, он и в другом месте попадется, так и тебя заодно уж оговорит, а наш брат полицейский тоже свинья не последняя: не размыслит того, что товарища на поруганье предавать не следует -- ломит себе на бумагу все, что ни сбрешут ему на допросе! ну, и не разделаешься с ним, пожалуй, в ту пору... Нет, видно, уж по начальству придется.
Сказав это, Маслобойников впал в какое-то меланхолически-сентиментальное настроение духа, глаза уставил в землю, руками начал "тужить" и все дальнейшее произносил тоненьким головным тенором:
-- И добро бы доподлинно не служили! А то, кажется, какой еще службы желать! Намеднись его высокородие говорит: "Ты, говорит, хапанцы свои наблюдай, да помни тоже, какова совесть есть!" Будто мы уж и "совести" не знаем-с! Сами, чай, изволите знать, про какую их высокородие "совесть" поминают-с! так мы завсегда по мере силы-возможности и себя наблюдали, да и начальников без призрения не оставляли... Однако сверх сил тяготы носить тоже невозможно-с.
IV
На другой день вечером все было уже готово; недоставало только депутата, ратмана Половникова, который, заслышав о предстоящем депутатстве, с утра сбежал из дома и неизвестно куда скрылся.
Время, предшествующее началу следствия, самое тягостное для следователя. Если план следствия хорошо составлен, вопросы обдуманы, то нетерпение следователя растет, можно сказать, с каждою минутой. Все мыслящие силы его до такой степени поглощены предметом следствия, что самая малейшая помеха выводит его из себя и заставляет горячиться и делать тысячу промахов в то самое время, когда всего нужнее хладнокровие и расчет.
Я ходил по комнате и, признаюсь откровенно, неоднократно-таки посылал куда следует Половникова и всех этих депутатов, которые как будто для того только созданы, чтобы на каждом шагу создавать для следователя препятствия. Я вообще люблю дела делать беспрепятственно, потому что оно как-то ловче, прохладнее распоряжаться на просторе. Шум у дверей прервал мои размышления; я оглянулся и увидал полицейского солдата, который держал за веревочку человека с бородой, одетого в русский кафтан. У человека в руках была печать, которую он как-то ожесточенно мял пальцами.
-- Привел, ваше благородие, -- сказал полицейский.
-- Что это за человек?
-- Мещанин Половников, ваше благородие.
-- Где ты пропадал? нет, ты скажи, где ты пропадал? -- закричал я, вдруг почувствовав в сердце новый прилив гнева и нетерпения при виде этого господина, который своею медленностию мог порвать всю нить соображений, обуревавших мою голову.
Половников мялся на одном месте и продолжал вертеть печать в руках.
-- На чердаке, за старым хламом спрятавшись нашли, ваше благородие! пытали мы с ним маяться-то, -- продолжал солдат.
-- Ваше благородие... ваше превосходительство... ваше сиятельство!.. помилуйте, сударь, не погубите!
Говоря это, Половников то и дело протягивал руку с печатью и потом снова ее отдергивал.
-- Секлетарь-с, ваше благородие... они против меня злобу питают... потому как я человек бедный-с и поклониться мне нечем-с... по той причине я и обчеством выбран, что в недоимщиках был: семья оченно уж угнетает, так обчество и присудило: по крайности, мол, он хоть службу отбудет...
-- Так что ж секретарь-то?
-- Да вот все наряжает-с; а у меня, ваше благородие, семья есть, тоже работишка-с, ложечки ковыряю, а он все наряжает: я, говорит, тебя в разоренье произведу... Господи! что ж это такое с нам будет!
-- Что ж у тебя в руках-то?
-- Да тамга, ваше благородие, тамга: неученый ведь я, сударь, так вот и прикладываю, где господа укажут.
-- Посмотри, пришла ли Кузьмовна? -- сказал я полицейскому.
-- Ваше благородие! -- обратился ко мне Половников, когда полицейский вышел, -- другие господа бывают добрые...
-- А что?
-- Да вот, кабы была ваша милость меня отпустить, так я бы, заместо себя, тамгу-то свою здесь оставил.
-- А вот посмотрим, как Кузьмовна скажет.
В это время вошла Мавра Кузьмовна. Она не обнаруживала ни в лице, ни в фигуре своей ни малейшего признака смущения. Напротив того, очень спокойно перекрестилась старинным обычаем и поклонилась мне как-то сухо и чванно, а на Половникова не обратила даже ни малейшего внимания, хотя он несколько раз сряду поклонился ей.
-- Вот ратман-то просит, чтоб я отпустил его, -- сказал я.
-- Что ж, сударь, это ваше уж дело; коли без свидетелей спрашивать хотите, так отчего же и не отпустить, -- отвечала Мавра Кузьмовна, -- а, кажется, в законе этого не написано, чтоб без свидетелей спрашивать.
-- Ну, нечего делать; садись, Половников.
-- Помилуйте, матушка Мавра Кузьмовна, -- взмолился Половников, -- что ж, значит, я перед господином чиновником могу?.. если бы я теперича сказать что-нибудь от себя возможность имел, так и то, значит, меня бы в шею отселе вытолкали, потому как мое дело молчать, а не говорить... рассудите же вы, матушка, за что ж я, не будучи, можно сказать, вашему делу причинен, из-за него свою жизнь терять должон... ведь я, все одно, тамгу свою господину чиновнику оставлю.
-- Как знать-то: может, его благородию и притязание заблагорассудится объявить, -- сказала Мавра Кузьмовна, насильственно улыбаясь, -- а впрочем, мы люди подчиненные!
-- Да ведь я с тобой просто, по душе поговорить желаю, -- сказал я.
-- А что ж, сударь, и по душе говорить будем, все лишний человек не помеха... Да и что ему сделается -- не сахарный!
-- Помилосердуйте, матушка!
Но Мавра Кузьмовна, по какому-то капризу, осталась непреклонною и только улыбалась на мольбы Половникова, хотя ей очень хорошо было известно, что печать Половникова имела здесь точно то же значение, как сам он. -- Так-то вот, ваше благородие, едма нас едят эти шельмы! -- сказал Половников, злобно запахивая свой азям, -- целую зиму, почитай, чиновники из городу не выезжали, все по ихней милости!.. анафемы! -- прибавил он, огрызаясь в ту сторону, где стояла Мавра Кузьмовна, -- ну, да ладно же! V
-- Так ты думаешь, что прежде вам лучше житье было? -- спросил я Мавру Кузьмовну, когда заметил, что она достаточно обручнела.
Кузьмовна сидела передо мной, несколько наклонившись, и рассказывала тихим, но внятным голосом, размахивая нередко одною рукой, между тем как другою комкала носовой платок.
-- Когда же сравнить можно! да ты послушай, сударь, в моей одной обители что девок было, и всё от богатых отцов, редконькая так-то с улицы придет. Всякая, значит, и с собой по возможности принесет, да и по времени тоже присылают. Ну, и все эти деньги старшим матерям шли... так как же сравнивать-то можно! Теперь мы что? вдовы беззащитные; живем где ночь, где день; кабы старых крох не было, так и пропитаться-то бы не знаю чем. Купцы-то, бывало, с ярмонки в скиты приедут, так ровно разахаются, как оно благочинно у нас там было, -- ну, тоже всякий по силе-возможности и жертву приносил; а нынче в нашу сторону не по что и ездить; разве другой на "святые" места поглядеть полюбопытствует, прослезится, да и уедет... так-то, сударь.
-- И ученые девки бывали?
-- Как же, сударь, по-церковному-то все уж умели, а были и такие начетчицы, что послушать, бывало, любо; я вот и сама смолоду-то куда востра на грамоту была... Господа тоже большие к нам в скиты посмотреть на наш обиход езживали.
-- Ты, чай, грамоте-то и теперь знаешь?
-- Как не знать: могу мало; что ж бы я была за настоятельница, кабы грамоте не могла?
-- А что, разве прежде вас не тревожили?
-- Бывало, сударь, бывало всякое. Да прежние-то больше на деньги падки были; ну, а как деньгами довольны, так и тревоги нам нет. Был у нас, сударь, исправник -- молодая я еще в ту пору была -- Петром Михайлычем прозывался, так это точно что озорник был; приедет, бывало, в скит-от в карандасе, пьяной-распьяной: "Ну, говорят, мать Лександра (игуменья наша была), собирай, говорит, девок поедрёнее, я, говорит, кататься желаю". Ну, и соберут этта девок, а он их и велит запрягчи, кого в корню, кого на вынос, да такту и проклажается по скитам. Так вот, сударь, как заслышишь, бывало, что Петр Михайлыч приехал, так от страху даже вся издрожишься, зароешься где-нибудь в сено, да и лежишь там, доколе он не выедет совсем из скита. Ну, этот точно обидчик был; давай ему и того, и сего, даже из полей наших четвертую часть отделил: то, говорит, ваше, а эта часть моя; вы, говорит, и посейте, и сожните, и обмолотите, и ко мне в город привезите. Или вот придет в келью к матери игуменье, напьется пьян, да и заставит девок плясать да песни петь... ну, и пляшут, -- не что станешь делать-то! Однако даже и этот трогать нас не трогал, а только озорство свое соблюдет, да и уедет... Ну, а прочие были, тоже человечество понимали: приедут, бывало, оберут деньги, и не показываются до времени. Одно для нас, сударь, тяжеленько бывало: больно уж часто начальников нам меняли, не успеет еще один накорыстоваться довольно, глядишь, его уж и сменили -- ну, и стараются за один раз свою выгоду соблюсти.
-- Да ты-то как в скиты попала?
-- А я, сударь, от родителей, в Москве, еще маленька осталась, ну, братья тоже были, торговлю имели; думали-думали, куда со мной деваться, и решили в скиты свезти. Конечно, они тут свои расчеты держали, чтобы меня как ни на есть от наследства оттереть, ну, да по крайности хоть душе моей добро сделали -- и на том спасибо!
-- А живы они и теперь?
-- Как не живы -- живут; только один-от, на старости лет, будто отступился, стал вино пить, табак курить; я, говорит, звериному образу подражать не желаю, а желаю, говорит, с хорошими господами завсегда компанию иметь; а другой тоже прощенья приезжал ко мне сюда просить, и часть мою, что мне следовало, выдал, да вот и племянницу свою подарил... я, сударь, не из каких-нибудь...
-- Кому ж тебя в скитах-то отдали?
-- Игуменье, сударь, матери Лександре; тоже ведь хошь и обидели меня братья, а бесприданницей пустить не захотели, тысячу рублев бумажками матушке отдали. Жила я у ней в послушанье с десятого годка и до самой их кончины: строгая была мать. Довольно сказать, что в колодки нашу сестру запирала, на цепь саживала, и не за что-нибудь, сударь, такое, чтобы уж зазорно было, а просто или поклон не по чину сделала, или старшим уваженья не отдала. Совсем другое это время было. Теперича хошь и это сказать: приедут, бывало купцы с ярмонки; в других скитах посмотришь, самые старшие матери встречать их бегут, да и игуменья-то с ними, ровно они голодные, а мать Лександра скоро ли еще выдет, а и выдет, так именно можно сказать, что игуменья вышла: из себя высокая да широкая, голос резкой. Ну, купцам-то это и любо: этакую, говорят, мать и не уважить невозможно, потому как она и себя соблюдает строго. И в обхожденье тоже сноровку имела: с богатым человеком и поговорит ласково, и угощенье сделает, с средним обойдется попроще, а с бедным и разговаривать, пожалуй, не станет: эти мужики да мещанишки только стоят, бывало, да издальки на нее крестятся. Привередлива она тоже была, покойница, особливо под конец жития: платок это или четки там подле, кажется, лежат, а она сама ни в свете руки за ними не подымет, все Маврушка подай; натерпелась-таки я с ней. Бывало, даже молиться начнет, так и то и нагни ты ее, и подними ты ее, а она только знает командует. Или вот гулять выдет: на крылечке маленечко постоит, ручки скламши, посмотрит на нас, как мы в горелки бегаем, да и домой. Ни за что в свете даже шагу не сделает. Так другие-то матери при ней и языка развязать не смели, а только глядят, бывало, на нее да усмехаются, потому что она тоже любила, чтоб у ней все некручинно смотрели. И прожила она, сударь, таким родом лет за сотню, и хоша под конец жизни очень уж стара была, даже ноги едва волочила, а строгость свою всю соблюдала, так что я и в сорок-то лет ее, словно маленькая, страшилась.
-- Ишь анафема какая! -- сказал Половников, но Мавра Кузьмовна не только не удостоила его ответом, но даже и не взглянула на него.
-- Кого же после нее игуменьей сделали?
-- Дай бог ей здоровья, сама меня еще при жизни назначила, а другие матери тоже попротивиться этому не захотели: так я и оставалась до самого конца, то есть до разоренья... только плохое, сударь, было мое настоятельство...
-- Да за что же эту Александру так любили, коли она была такая строгая?
-- А как же, сударь, не любить-то? Ну, хошь бы ты, сударь, человек подначальный -- разве возможно тебе своих начальников не любить? Первое дело, что у нее везде свой глаз был: стало быть, тут не только разговору, да и мысли ни единой скрыть было невозможно. Были, примерно, и между нами такие сестры, которые обо всем ей весть подавали. Шушукали тоже ей в уши-то: такая-то, мол, Дорофея такими-то зазорными словами твою милость обозвала, такая-то Иринарха то-то сказала. Ну, а старуха тоже была властная, с амбицией, перекоров не любила, и хочь, поначалу, и не подаст виду, что ей всякое слово известно, однако при первой возможности возместит беспременно: иная вина и легкая, а у ней идет за тяжелую; иной сестре следовало бы, за вину, сто поклонов назначить, а она на цепь посадит, да два дни не емши держит... ну, оно не любить-то и невозможно. А второе было дело, что мы все наше пропитанье, можно сказать, через нее получали, потому что ни в одном скиту столько милостыни не бывало, как в нашем: и деньгами и припасом -- всем изобильны бывали. А тягости нам не что было: только одну наружность соблюсти, так из-за этого много разговаривать не приходилось, потому что и сами-то мы не бог знает какие дворяне. Пища бывала завсегда в лучшем виде, труда немного, так за зиму-то иные матери так, бывало, отъедятся, что даже смотреть зазорно.
-- Да купцам-то почему эта Александра так по нраву пришлась, что они ей больше других милостыню подавали?
-- А как же, ваше благородие, -- вступился Половников, -- кто же, как не мать Александра, ихние блудные дела обделывала! Девка там у них согрешит -- куда девать? в скит к Александре под начал отдать; жену муж возненавидит -- тоже в скиты везет; даже такие бывали случаи, что купцы и больших сыновей, под видом убогоньких, к этой Александре важивали. Это, ваше благородие, такая уж у них материя была, чтоб погублением душ человеческих заниматься... Вот и то опять: увидят, который из нашего брата совестью шатается -- ну, и привлекают...
-- Уж и тебя не привлекали ли? -- спросила его Мавра Кузьмовна, оглядывая его с головы до ног.
-- А то не привлекали небось?.. В ту пору, годов этак с десяток будет, был я, ваше благородие, помоложе, к хмельному тоже приверженность большую имел, потому как жена кажный год все таскает да таскает... ну, стало быть, невмоготу пришлось, а християнства в нас мало, и стал я с печали в вине забываться... Так тоже приходила из ихнего скита одна гадина: "Подь, мол, Филат Финагеич, к нам в веру, пшенисный хлеб будешь есть". Как только бог тогда спас! Да и ты ведь сплетница известная! -- прибавил он, обращаясь к Мавре Кузьмовне, -- из-за твоих из-за сплетен сиди тут, слушай твои россказни!
-- Неужто и вправду к вам в скиты девок в неволю отдавали?
-- Какая, сударь, неволя! он, сударь, чай, и теперь еще с похмелья не проспался.
-- Да, с похмелья! а Варсонофью-то небось позабыла? кажется, на последних временах это было, при твоем честном игуменстве... позабыть-то бы еще рановато!
Сказавши это, Половников даже повернулся на месте: до такой степени кипела в нем досада на Кузьмовну за то, что она не отпустила его.
-- Вы ее, ваше благородие, не слушайте, -- обратился он ко мне, -- она все врет... А ты расскажи-ка про Варсонофью-то, как ты ее ублажала!
Я стал прислушиваться, потому что здесь именно выступал на сцену главный предмет моих поисков. Я боялся даже взглянуть на Кузьмовну, потому что взгляд мой мог выразить невольно любопытство и вместе с тем заставить ее сделаться осторожнее.
-- А что ж Варсонофия? -- сказала Мавра Кузьмовна совершенно спокойно, -- как пришла к нам, так от нас и ушла Варсонофия...
-- Нет, ты расскажи-ка барину, как она пришла-то к вам, то есть к тебе в обитель; вот ты что расскажи.
-- Что ж, пришла! известно, пришла, как приходят: родитель привез, своею охотой привез... да ты что больно вступаешься? тут, чай, господин чиновник разговаривает, а не ты с суконным своим с рылом.
-- Ну, а как, в самом деле, зачем привез к вам отец Варсонофию? -- спросил я, стараясь сколько возможно смягчить голос.
Мавра Кузьмовна посмотрела на меня как-то сомнительно, однако ж, видя, что передо мною нет чернильного припаса и что сам я сижу совершенно невинно, успокоилась.
-- А что, барин, коли по истинной правде сказать, -- начала она, -- так это точно, что она не своей охотой у нас жила. Лет с пяток назад -- была уж я в ту пору игуменьей -- приезжает к нам по осени знакомый купец из Москвы. Время было самое ненастное, глухое, а приезжает он ночью и требует меня настоятельно. Стало быть, думаю, уж больно велика нужда, коли в такую пору себя беспокоит Михайло Трофимыч. И точно; вышла я это к нему, а он не дал мне даже поздороваться, прямо в ноги. "Али что у вас, Михайло Трофимыч, случилось?" -- говорю. А он стоит это передо мной бледный, ровно сам не свой: "Помоги, говорит, мать Магдалина (в "чине"-то я Магдалиной прозывалась); с еретиком, говорит, Варька-то моя связалась, с приказным". -- "Что ж, говорю, разве уж больно худо дело?" -- "Да так-то, говорит, худо, что через неделю, много через две, разрешенью быть надо; ты, говорит, подумай, матушка, одно только детище и было да и то в крапиву пошло!" А сам, знаешь, говорит это, да так-то, сердечный, льется-разливается. "Про кого, говорит, я деньги-то копил!.." Ну, это точно, что мы тогда с ним условие сделали, чтобы она у меня под началом выпросталась... Так ведь на это он, сударь, и родитель, чтобы своим детищем располагаться как ему угодно: в чем же я могу ему тут препятствие сделать?
-- Так он навсегда ее в скиты отдал?
-- На житье, сударь, на житье... точно, что старик он суровый, непреклонный; я, говорит, теперича и на глазах-то ее держать не хочу, и если, говорит, пропадет она, так жалеть не об чем...
-- И поди, чай, -- прервал Половников, -- сделавши такое доброе дело, стал на молитву, выпустил рубаху, опояску ниже пупа спустил... и прав, думает... Ну, а робенка-то куда вы девали? ты говори да досказывай! -- продолжал он, обращаясь к Кузьмовне.
-- Что ж робенок? -- отвечала Кузьмовна совершенно равнодушно, -- робенок мертвенький родился: тут его и схоронили -- это точно.
-- Да, как придушить человека, оно точно что мертвенький будет.
Мавра Кузьмовна позеленела; она никак не рассчитывала ни на вмешательство Половникова, ни на то, что разговор примет столь неприятный для нее оборот.
-- Ваше благородие! -- сказала она, вставая со стула и вся дрожа от злости, -- прикажите этому псу молчать!
Но Половников разгорячился и с своей стороны встал со стула и начал наступать на нее.
-- Нет, ты зачем же его благородие обманываешь? нет, ты скажи, как ты Варьку-то тиранила, как ты в послушанье-то ее приводила! ты вот что расскажи, а не то, какие у вас там благочиния в скитах были! эти благочиния-то нам вот как известны! а как ты била-то Варьку, как вы, скитницы смиренные, младенцев выдавливаете, как в городе распутство заводите, как вы с Александрой-то в ту пору купеческого сына помешанным сделали -- вот что ты расскажи!
-- Тетонька! пожалуйте-ка сюда! -- раздался в это самое время из передней голос племянницы, с которою я познакомился еще вчера утром.
-- Можно, ваше благородие? -- спросила Кузьмовна голосом, в котором слышалось сильное волнение.
Я отпустил ее и между тем поспешно отворил дверь в соседнюю комнату, из которой вышла другая женщина, высокая, бледная, но очень еще красивая. Я поставил ее в угол комнаты, так чтобы Кузьмовна не могла ее с первого раза заметить. В то же самое время я перенес с окна чернильницу и все нужные по делу бумаги.
VI
-- Не можно ли мне домой отлучиться, ваше благородие? -- сказала Кузьмовна, входя в комнату.
Она была сильно взволнована и тряслась всем телом.
-- Разве что-нибудь случилось? -- спросил я.
-- Да что случиться-то! вот девка сказывает, что Иван Демьяныч в дому шарит -- только чудо, право!.. Отпустите, сударь, по крайности хошь бы посмотрела, как гнездо-то мое разоряют.
-- Нет, Кузьмовна, теперь домой не время идти: ты отвечать должна.
-- В чем же я отвечать буду? Я, сударь, тебе наперед говорю, что ничего не знаю.
-- Посмотрим; как тебя зовут?
-- А как зовут -- Маврой зовут.
Я сделал здесь обычные вопросы, которыми начинается всякий допрос.
-- Знаешь ли ты Варвару Михайловну Тебенькову, она же скитница Варсонофия?
-- Да ты как же, сударь, это спрашиваешь: просто, что ли, или записать хочешь?
-- Ты видишь, что я первый твой ответ (об имени и т. д.) записал: стало быть, это не разговор, а следствие.
-- Так, сударь... Не припомню, сударь, чтой-то я, никакой Варвары Михайловой не припомню.
И она делала вид, как будто старалась припомнить.
-- Может быть, Варсонофию припомнишь?
Она снова задумалась.
-- Ну, и Варсонофии никакой не припомню: может быть, и была у нас Варсонофия, да уж, право, не знаю, про какую ты спрашиваешь... Была у нас Варсонофия кривая, была Варсонофия горбуша, а Тебеньковой Варсонофии что-то и не бывало.
-- А Тебенькова Михаила Трофимыча, московского купца, знаешь?
-- Н... не знаю... какой же это такой Трофим Тебеньков? что-то и не слыхала я про такого...
-- Не Трофим, а Михайло Трофимов Тебеньков... знаешь ты его или нет?
-- Нет, сударь, не знаю я Тебенькова...
-- А грамоте умеешь?
-- Какая, сударь, у нас грамота? печать церковную читать коё-как еще могу... да и то ноне глазами ослабла. Намеднись вот Петр Васильевич канунчик прочитать просил, так и то, сударь, не могла: даже Дарья Семеновна, хозяйка ихняя, удивилась -- вот, сударь, какова наша грамота... Это хошь у кого хотите спросите.
-- А писать не умеешь?
-- Не умею, сударь, не стану лгать; не умею: даже молода была, никогда писать не могла.
-- Слушай.
ПО МОЛИТВЕ
Ангельского жития подражательнице, горнего Иерусалима ревнительнице, добродетелей небесных поборнице, девственный чистоты охранительнице, матушке и. Магдалине, аз, грешный раб ваш Михаил, земно кланяюсь, здравия и всякого благополучия желаю; как вы там, матушка, в своей честной обители, благополучно ли проживаете?.. А что вы, матушка, насчет Варвары пишете, так вы на ее злонравное прекословие не глядите, а стригите ее как вам пожелается. Я свои капиталы распорядил; богатство наше, матушка, тленное, надо тоже и о душе подумать, чтоб было с чем пред создателя предстать. Нынче же мы большое для християнства дело затеваем, однако пока ничего об нем не пишу, потому что и известного ничего еще нет. Так вы бы на нее, матушка, не смотрели, а внушали бы ей, что на родителей надеяться нечего, потому как сама себя соблюсти не умела, стало быть, и надеяться не на кого. И еще вы пишете, что и за косу ее привязывали и другими средствиями началили, и все якобы проку от этого нет... Так вы бы ее еще, матушка, маленько, яко мать, повымучили, а буде, какова пора ни мера, и за тем противничать станет, в холоднем бы чулане заперли, доколе не восчувствуется, или и иную меру одумали. А мне с Варварой деваться некуда, по той причине, что я и в сердце своем положил остальное время живота своего посвятить богоугодным делам. Даже и об том помышляю, чтобы, на старости лет, совсем от мирския прелести удалиться, и сказывали мне, будто для того в закамской стороне и места удобные обретаются, и живут в них старцы великие постники и подражатели; так вы бы, матушка, от странников, в ваши места приходящих, об том узнавали, где тех великих старцев сыскать, и мне бы потом отписали. А у нас на Москве горше прежнего; старец некий из далеких стран сюда приходил и сказывал: видели в египетской стране звезду необычную -- красна яко кровь и хвост велик. И тамошний египетский салтан с звездочеты зело таковому чуду дивляхуся... Уж и подлинно, матушка, не быть ли вскорости второму пришествию! увы нам, беззаконным! Матушкам: Манефе, Евфалии, Уалентине нижайше кланяюсь: напрасно вы, матушки, себя беспокоите, гостинцы нам высылать; помолитесь за нас, грешных, а мы вам завсегда, по силе-помощи, всем служить рады. Раб ваш смиренный
Михаил Тебеньков.
-- К тебе это писано?
-- Какое же это письмо? Чтой-то будто я ни от кого таких писем не получивала!
-- Да ты говори прямо: к тебе или не к тебе это письмо писано?
-- А кто ж его, сударь, знает: ведь писать никому не запрещается - может, кому и вздумалось написать, только я ничего этого не получивала, и об чем там сказано, не знаю...
-- Так и записать прикажешь?
-- Так, батюшка, и запиши. Это точно что не знаю, не стану на себя лгать. Да и обычая у нас такого не бывало, чтоб переписываться: мы, батюшка, старухи старые, слепенькие, нам впору божественные книжки читать, а не то чтоб переписываться.
-- Ну, слушай же еще.
ПО МОЛИТВЕ
Доброжелателю нашему, добродетелями яко смарагд изукрашенному, батюшка Михайло Трофимыч, аз, смиренная и. Магдалина, со всеми нашими матушками нижайше кланяюсь, спаси вас бог, а паче всего приумножь нетленные богатства души вашей... А что вы нам про девицу Варвару пишете, так об ней много беспокоиться не извольте: уж она не Варвара, а и. Варсонофия, смирилась и стричь себя допустила. Много было у нас с ней в этом разговору; все прежняя прелестная жизнь смущала, да я, положившись на ваше родительское благословение, стала ее усиленно к богоугодному делу нудить, а если бы не то, так и в жизнь бы, кажется, не дозволила: такого твердого нраву девица. Насчет того дела, про которое вы секретно пишете, и у нас прошли было слухи, и мы очень этому возрадовались, а сестры-старухи даже прослезились все, что древнее благочестие не токмо не изведется, но паче солнца воссиять должно. Спаси вас господи за ваши труды, почтеннейший муж Михайло Трофимыч; мы, что можем, с своей стороны на общую пользу готовы, только сами знаете, старухи сироты что в таком великом деле могут, кроме молитв? А когда вы, батюшка, одумаете от прелести мирской уклониться, так прежде не худо бы вам в нашем скиту погостить, около дочки вашей; наши старушки за вами походили бы и вашу старость бы упокоили. Все они нижайше вам, нашему благодетелю, кланяются и все, благодаря бога, благополучны, только престарелая мать Палинария неделю тому назад преставилась, так многие старушки сильно об ней растужились. Посылаем вам, батюшка, нашей работы ложечек: примите, и нас, сирых скитниц, не оставьте. Доброжелательница ваша и. Магдалина.
-- Ты писала это письмо?
-- Нет, батюшка, какое такое письмо, я и не знаю... верно, какой-нибудь ворог на меня эту напраслину взводит, а я, сударь, вот что тебе скажу, что я и писать-то не учена... да уж нельзя ли, ваше благородие, до завтрева спросы-то покинуть: больно мне что-то неможется, а завтра, может, и припомню что.
-- Так ты решительно утверждаешь, что никакой Варсонофии или Варвары Тебеньковой не знаешь?
-- Не знаю, батюшка, не знаю.
-- Вспомни, однако ж, что не далее как за полчаса перед этим ты сама подробно рассказала всю историю своих отношений к Тебенькову и созналась, что Варвара точно жила у тебя в обители.
-- Не знаю, сударь, может, с испугу и точно я что солгала, а теперь даже просто, что и говорила-то, позабыла... вот я тебе как, сударь, скажу...
-- Господин ратман, вы можете засвидетельствовать, что Кузьмовна созналась в том, что она знает Тебенькову?
-- Да помилуй, сударь, разве ты судом меня спрашивал? ведь тот разговор у нас по душе был.
-- Здравствуйте, матушка Мавра Кузьмовна! -- сказала в это самое время Варвара Тебенькова, подошедшая, по знаку моему, к допрашиваемой.
Если бы в эту минуту слетел огонь с неба, то и он не поразил бы Мавры Кузьмовны в такой степени, как слабый и тихий голос Тебеньковой. Кузьмовна растерялась и как будто совсем ослабла; первым ее движением было перекреститься, вторым -- опуститься на стоявший вблизи стул. Казалось, впечатление было полное, подавляющее; Кузьмовна задыхалась, стонала и беспрестанно крестилась. Я ожидал, что вот-вот вырвется у нее признание. Однако, минуты через две, она немного успокоилась, встала и не только не созналась, но продолжала запираться еще с большим ожесточением.
-- Извините, ваше благородие, -- сказала она голосом еще неуспокоившимся, -- очень уж я испужалась... словно из земли незнакомый человек вырос... Да кто ж ты такая, голубушка, что я словно не припомню тебя? -- продолжала она, обращаясь к Тебеньковой.
-- Чтой-то, матушка, будто уж смиренной Варсонофии не припомните? чай, не день и не два с вами жили.
-- Какая же ты, голубушка, Варсонофия? была у нас горбуша Варсонофия, так неужто ты та самая и есть?
-- Вишь, как пришло ей узлом, вишь, какую чушь городить начала! Память, что ли, у те отшибло, старая, что Варвару не узнаешь? -- сказал Половников.
-- Куда, чай, узнать? -- отозвалась Варвара с горечью, -- мы люди темные, подначальные, поколь в глазах, дотоль нас и знают... А вспомните, может, матушка, как вы меня в холодном чулане без пищи держивали, за косы таскивали... али вам не в диковину такие-то дела, али много за вами этого водилось, что и на памяти ничего не удержалось?..
-- Повтори свое показание, -- сказал я.
VII
-- Осталась я после мамыньки по восьмому годку; родитель наш не больно чтобы меня очень любил, а так даже можно сказать, что с самых детских лет, кроме бранных слов, ласки от них я не видывала. Должно полагать, что на мамыньку они неудовольствие питали, потому что и меня часто ею попрекали, что будто бы я как не ихняя дочь, а какого-то приказного. По этой самой причине родитель наш меня с собой и не держал, а соблюдал больше на кухне с рабочими людьми. Родитель наш человек суровый, словно как даже без души совсем...
-- Вот как нынче об родителях-то говорят, -- отозвалась Кузьмовна, язвительно улыбаясь.
-- Конечно, ихние добродетели вам больше известны, матушка, потому как ихнее к вам большое пристрастие было, особливо насчет Манефы Ивановны...
-- Еще и Манефу Ивановну какую-то приплела... ну, плети, плети свои сплётки, голубушка.
-- В девочках я точно что больно шустра была, ваше благородие. Известно, без призору, как крапива у забора росла, так и норовишь, бывало, озорство какое ни на есть сделать. Добру учить было некому, а и начнет, бывало, родитель учить, так все больше со злом: за волосы притаскает либо так прибьет, а не то так и прищемить норовит... как еще жива осталась... Вот матушка Мавра Кузьмовна сказывала вам, будто родитель наш плакался, как меня в скиты привез, так это они напрасно сказали. Родитель наш такое сердце в себе имеют, что даже что такое есть слезы не знают... А если и в сам-деле плакали, так это потому, что по обычаям в таком деле слезы следуют, а без слез люди осудят. Была у нас суседка, старуха старая, так она только одна и жалела меня, даже до господина надзирателя доходила с жалобой, как родитель со мной обходится, только господин надзиратель у родителя закусил и сказал, что начальство в эти дела не входит. Так старуха-то, бывало, только дивится, как это я жива состою: вот какое житье было...
Тебенькова закручинилась и утирала концом платка, которым повязана была ее голова, катившиеся из глаз слезы. Кузьмовна, напротив, стояла совершенно бесстрастно, сложивши руки и изредка улыбаясь.
-- Конечно, сударь, может, мамынька и провинилась перед родителем, -- продолжала Тебенькова, всхлипывая, -- так я в этом виноватою не состою, и коли им было так тошно на меня смотреть, так почему ж они меня к дяденьке Павлу Иванычу не отдали, а беспременно захотели в своем доме тиранить? А дяденька сколько раз их об этом просили, как брат, почитая память покойной ихней сестры, однако родитель не согласились ихней просьбы уважить, потому что именно хотели они меня своею рукой загубить, да и дяденьке Павлу Иванычу прямо так и сказали, что, мол, я ее из своих рук до смерти доведу...
Половников вздохнул.
-- Вот они каковы все, -- сказал он, -- по наряду, где написано плакать, во всякое время плакать готовы, а християнскую душу загубить ничего не значит.
-- Что делать! каковы уродились, таковы и есть, не посетуй, родимый! -- заметила иронически Кузьмовна, -- у тебя бы поучиться, да ты, вишь, только ложечки ковырять умеешь, а немца наймовать силы нетутка.
-- Жила я таким родом до шестнадцати годков. Родитель наш и прежде каждый год с ярмонки в скиты езживал, так у него завсегда с матерями дружба велась. Только по один год приезжает он из скитов уж не один, а с Манефой Ивановной -- она будто заместо экономки к нам в дом взята была. Какая она уж экономка была, этого я доложить вашему благородию не умею...
-- Будто уж и не умеешь? -- прервала Кузьмовна.
-- А ты почему знаешь, что умеет? -- спросил я.
-- Да ведь и по виду, сударь, различить можно, что девка гулящая, -- сказала она.
-- Только стало мне жить при ней полегче. Начала она меня в скиты сговаривать; ну, я поначалу-то было в охотку соглашалась, да потом и другие тоже тут люди нашлись: "Полно, говорят, дура, тебя хотят от наследства оттереть, а ты и рот разинула". Ну, я и уперлась. Родитель было прогневался, стал обзывать непристойно, убить посулил, однако Манефа Ивановна их усовестили. Оне у себя в голове тоже свой расчет держали. Ходил в это время мимо нашего дому...
Тебенькова потупилась и покраснела. Несколько секунд стояла она таким образом, не говоря ни слова, но потом оправилась и продолжала свой рассказ тем мягко-застенчивым голосом, в котором слышались слезы молодой и не испорченной еще души.
-- Ходил в это время мимо нашего дому молодой барин. Жили мы в ту пору на Никольской, в проулке, ну, и ходил он мимо нас в свое присутствие кажной день... Да это нужно ли, ваше благородие?
-- Ничего, продолжай.
-- Только больно уж полюбился мне этот барин. Девчонка я была молодая, не балованная, а он из себя казал такой смирный да тихонький. Идет, бывало, мимо самых окошек, а сам в землю глядит, даже на окошко-то глаза поднять не смеет. Одет, бывало, чистенько, из лица бледный, глазки большенькие, и все песенку про себя мурлычет. Поначалу хаживал он только утром, в присутствие и назад, а потом начал и вечером учащать. И столько я любила смотреть, как он, бывало, идет по улице, что даже издальки завидишь, так словно в груде у тебя похолодеет.
Тебенькова задумалась, несколько минут крепилась и потом вдруг горько и сосредоточенно зарыдала.
-- Ничего, матушка, бог даст, соединитесь с своим предметом, -- заметил, в виде утешения, Половников.
-- Только раз, сижу я это вечером под окошком, и вижу, что идет мой барин милый. Поравнялся он с моим окошечком, да и стал тутотка; говорить ничего не говорит, а словно замешался... Я тоже сижу, будто в пяльцах работаю, а сама даже ничего не вижу, только дрожу вся. Вот он постоял-постоял и пошел, однако, своею дорогой, не сказавши слова. А мне и невдомек, что в этой же горнице Манефа Ивановна сидели, и все за нами выслеживали; только тогда и догадалась, как оне заговорили со мной. "А что, говорит, Варвара Михайловна, или вам господин приказный по ндраву пришел?" Только я испужалась, даже дыханье у меня захватило. "Нет, говорю, никакого приказного я не знаю". -- "Ну, полноте же, моя голубушка, от меня скрываться вам нечего; я, говорит, давно за вами примечаю, и хотя в иночестве нахожусь, однако слабость человеческую понимать могу; так вы, говорит, лучше во всем мне откройтесь -- может, заодно как-нибудь и устроимся". Ну, я тоже на это ей говорю: "Коли вы уж так, говорю, Манефа Ивановна, так я перед вами скрыться не могу: давно уж я в Митрия Филипыча очень влюблена". Ну, и точно-с, на другой это день, родителя нашего дома не было, идет Митрий Филипыч мимо, а Манефа Ивановна в окошко глядит. "Позвольте, говорит, вас просить, господин приказный, не угодно ли побеседовать". Он и вошел; натурально, угощенье тут подали. "Верно, -- говорит Манефа-то Ивановна, -- вам наши горницы полюбились, что очень часто мимо нас ходите". Ну, он точно сознался, что влюблен. "А коли так, -- опять говорит Манефа Ивановна, -- я вам препятствия делать не стану". И оставила нас вдвоем. Только что у нас тут с ним было, доподлинно сказать вашему благородию не могу, потому как я даже рассудка своего ровно как лишилась. Больно уж он меня любил; стал это меня обнимать да целовать: "Варенька, говорит, жизнь вы моя, очень я по вас сокрушаюсь". А сам это, знаете, все ласкается да целует. Однако я поначалу виду не подавала: "Мужчины, говорю, все обманщики, и вы тоже обманете". Ну, и все такое...
-- Да хошь бы ты покороче, что ли, рассказывала, -- прервала Мавра Кузьмовна с худо скрытою досадой.
-- Прикажете, что ли? -- спросила меня Тебенькова.
-- Разумеется, продолжай.
-- Таким родом пробыли мы с полгода места, и хоша и был у нас разговор, чтобы наше дело законным порядком покончить, однако Манефа Ивановна отговорила родителя этим беспокоить, а присоветовала до времени обождать. Только в полгода времени можно много и хорошего, и худого дела сделать; стало быть, выходит, что я не сильна была свою женскую слабость произойти и...
Тебенькова опять вспыхнула и потупилась.
-- Что ж, чай, тоже забеременела, скитница?! -- заметила Кузьмовна, -- такое хорошее дело и не в месяц сделать можно!
-- Ваше благородие! прикажите мне одной говорить, -- сказала Тебенькова.
-- Замолчи, Кузьмовна, твоя речь впереди.
-- Вот как этакое-то дело со мной сделалось, и стали мы приступать к Манефе Ивановне, чтоб перед родителем открыться. "А что, говорит, разве уж к концу дело пришло?" И заместо того чтоб перед родителем меня заступить и осторожненько ему рассказать, что вот господин хороший и поправить свой грех желает, она все, сударь, против стыда и совести сделала. Сама меня, можно сказать, в грех ввела, да и сама же с руками родителю и выдала. Стал он допрашивать меня, что и как, и столько я, сударь, в то время побоев и ругательства приняла, что, кажется, не помни я завсегда, что християнская во мне душа есть, так именно смертию умереть следовало. Порешили они на том, чтоб в скиты меня на всю жизнь погребсти. Ну, наше дело детское: что над нами родители захотят сделать, то и сделают, потому как мы и слов против них не имеем. Меня хошь за вину в скиты сослали, а то вот у Мавры Кузьмовны в обители купеческая дочь Арина Яковлевна жила, так та просто молодой мачихе не по нраву пришлась, ну и свезли в скиты. Вот тоже и Филат Финагеич вашему благородию истинную правду про купеческого сына рассказывал, которого родители малоумным захотели сделать; нашей власти тут нет, чего старики захотят, то мы и исполнять должны.
-- Какую-то там еще Арину Яковлевну приплела -- только чудо, право! -- заметила Мавра Кузьмовна, улыбаясь и покачивая головой.
-- Видно, старые грехи гвоздем выходят, Мавра Кузьмовна; откуда слез ни брать, а, стало быть, плакать приходится, -- сказал Половников.
-- В скитах чего уж со мной не делали! вот эта самая Мавра Кузьмовна надо мною тешилась: и в холодний-то чулан запирала, и голодом морила, и на цепь саживала. Думаю я так, что оне с Манефой Ивановной извести меня захотели, чтоб я, значит, померла, и им после того родительский капитал весь получить. Только, видно, бог не попустил до этого; хошь и больно я от ихних побоев захворала, однако разрешилась благополучно младенцем...
-- Куда ж младенца-то девали?
-- А сказывали, что на деревню к мужичку в сыновья отдали, да после будто бы помер, -- отвечала Тебенькова, но потом, обратившись к Кузьмовне, как будто внезапная мысль озарила ее голову, прибавила: -- Нет, ты скажи, куда ты Мишутку-то девала?
Кузьмовна все так же улыбалась, а изредка даже пожимала плечами.
-- Нет, ты скажи, однако, -- приставала к ней Тебенькова, -- ведь ты, может, его в помойную яму выкинула -- у вас в обители на это мода была...
-- Отвечай же, Кузьмовна, -- сказал я.
-- Да что же я, сударь, скажу, когда уж я показала раз, что и ее-то совсем не знаю... об каком она Мишутке еще спрашивает? право, чудо!
-- Ну, слушай же.
"18** года, марта... дня, нижеименованные лица, быв спрошены, по расколу и прикосновенности, без присяги, показали:
1) Михайлом зовут меня, сыном Трофимовым, по прозванию Тебеньков, от роду имею лет, должно полагать, шестьдесят, а доподлинно сказать не умею; веры настоящей, самой истинной, "старой"; у исповеди и св. причастия был лет восемь тому назад, а в каком селе и у какого священника, не упомню, потому как приехали мы в то село ночью, и ночью же из него выехали; помню только, что село большое, и указал нам туда дорогу какой-то мужичок деревенский; он же и про священника сказывал. Под судом бывал ли, не знаю, а по следствиям тоже волочили, без этого не бывает; об штрафах тоже сказать не умею; разве что в консисторию гоняли, так это точно бывало. Дочь моя Варвара, точно, ушла от меня в скиты своею охотой и с моего благословения, и жила там в обители у игуменьи Магдалины, которая ныне мещанкой в городе С *** приписана и зовется Маврой Кузьмовной. Чтобы она напредь того была беременна, того я не знаю, и где она теперь находится, также не умею сказать, потому что с тех пор, как скиты разогнали, никаких известий оттуда не имею. Манефа Ивановна, старушка, точно у меня живет, однако не в любовницах, а в домоправительницах. Что показал по сущей справедливости и пр.
2) Манефа Ивановна Загуменникова, от роду имею тридцать лет; состою по расколу и жила в скитах, в обители у игуменьи Магдалины, где пострижена в иноческий образ под именем Маремьяны. Варвара Тебенькова, дочь моего хозяина, точно ушла от родителя своего в скиты, где и жила в той же самой Магдалининой обители, но про беременность ее ничего не знаю. Какая причина заставила ее идти в скиты, сказать не умею, потому как хотя я в то время и жила у Михаила Трофимыча в ключах, однако в ихние дела не вступалась, и любовницей у хозяина моего тоже не бывала, и с чего это взято, мне не известно. Что показав справедливо и пр.
3) Лжеинокини Иринарха, Дорофея, Павлина, Аполлинария и другие, ныне мещанки разных городов, быв спрошены, каждая порознь, показали, что означенная Варвара Тебенькова прибыла в их скиты, в Магдалинину обитель, ночью, и в скором времени родила мальчика, но куда девала его настоятельница, того они не знают. Они же сознались, что Магдалина действительно вынуждала Тебенькову различными истязаниями остричься, что последняя наконец и исполнила, и даже как будто примирилась с настоятельницей, почему, не за долгое время до разогнания их из скитов, была даже послана в разные места за сбором милостыни".
-- Из всех этих показаний ясно, во-первых, что ты напрасно запираешься в знакомстве с Тебеньковым и в укрывательстве дочери его; во-вторых, что Варвара Тебенькова действительно родила в твоей обители, и сын ее неизвестно куда пропал... Куда девала ты этого сына?
-- Что ж, сударь, вся ваша власть: хочь в железы меня куйте, хочь бейте, хочь в куски режьте -- я вся тут, -- отвечала Кузьмовна по-прежнему с бесстрастием, в котором даже проглядывало еще более решимости.
-- Приходится прочитать тебе и еще документец.
ПО МОЛИТВЕ
Почтеннейшему благодетелю Михайле Трофимычу аз, грешная и. Магдалина, земно кланяюсь. Дочка ваша на вчерашнюю ночь распросталась благополучно сынком, и я насчет его поступила по вашему желанию, а Варваре Михайловне матушки сказали, что отдали его в деревню в сыны к мужичку, и она очень довольно об этом тужила, что при ней его не оставили. После можно будет сказать, что он и помер, и вы бы, наш благодетель, были в том без сумнения, что это дело в тайности останется, и никто об том, кроме матушки Меропеи, не знает...
-- Позвать сюда Меропею! -- сказал я полицейскому и потом, обращаясь к Кузьмовне, прибавил: -- Ну, что ж ты на это скажешь?
-- А что сказать? что прежде говорила, то и теперь скажу: не знаю я ничего; хочь что хотите со мной делайте, а чего не знаю, так не знаю.
-- Ишь скаред какой! -- заметил Половников, терявший терпение, -- так тебя и послушают, незнайка!
-- Так, видно, и взаправду Мишутку-то в яму свалили! -- сказала Тебенькова, всхлипывая, и потом, обращаясь к Кузьмовне, прибавила: -- Черт ты этакой, че-орт!
-- Продолжай свое показание, -- сказал я.
-- Да чего больше сказывать-то! жила я, сударь, в этой обители еще года с два, ну, конечно, и поприобыкла малость, да и вижу, что супротивничеством ничего не возьмешь, -- покорилась тоже. Стали меня "стричься" нудить -- ну, и остриглась, из Варвары Варсонофией сделалась: не что станешь делать. В последнее время даже милостыню сбирать доверили, только не в Москву пустили, а к сибирским сторонам...
-- Как же тебя такую молоденькую отпустили?
-- Да по-ихнему, сударь, что моложе, то лучше: купцы больше денег дают. Уж, конечно, тут больше грех один, да по скитскому правилу то и хорошо, что грех, потому что "не согрешивши возмечтаешь, не согрешивши не покаешься, а не покаявшись не спасешься". Вот я и ходила таким родом месяцев с семь, покуда до Камы не дошла; там, сударь, город есть такой, в котором радетелей наших великое множество проживает. Стала я оттуда писать в скиты, что пачпорту срок вышел, а тут, заместо пачпорта-то, весть пришла, что и скиты все разогнали...
-- Ваше высокоблагородие! извольте сюда пожаловать! -- кликнул показавшийся в дверях полицейский.
Я вышел.
-- В ихнем доме господин исправник с понятыми -- архиерея изловили, сейчас сюда будут-с!
-- А Меропея?
-- Мерошка в бесчувствии-с.
VIII
В эту самую минуту на улице послышался шум. Я поспешил в следственную комнату и подошел к окну. Перед станционным домом медленно подвигалась процессия с зажженными фонарями (было уже около 10 часов); целая толпа народа сопровождала ее. Тут слышались и вопли старух, и просто вздохи, и даже ругательства; изредка только раздавался в воздухе сиплый и нахальный смех, от которого подирал по коже мороз. Впереди всех приплясывая шел Михеич и горланил песню.
-- Господи! что такое с нами будет? -- бормотала ветхая старушонка, ковыляя мимо окна и размахивая руками.
-- А то, матушка, будет, что, видно, умирать наше время пришло! -- отвечал какой-то старик, стоявший у ворот, и, вздрогнув всем телом, прибавил: -- Ишь ты, господи!
-- Прочь с дороги! -- кричал Михеич, который, по-видимому, распоряжался всей процессией, -- эй, вы! стойте тут, на дворе, покедова я его высокоблагородию доложу.
-- Соколов привели, ваше высокоблагородие! -- сказал он, входя в мою комнату, -- таких соколов, что сам Иван Демьяныч, можно сказать, угорел. А! Маремьяна-старица, обо всем мире печальница! -- продолжал он, обращаясь к Мавре Кузьмовне, -- каково, сударушка, поживаешь? ну, мы, нече сказать, благодаря богу, живем, хлеб жуем, а потроха-то твои тоже повычистили! да и сокола твоего в золотую клетку посадили... фю!
Я взглянул на Мавру Кузьмовну; она была совершенно уничтожена; лицо помертвело, и все тело тряслось будто в лихорадке; но за всем тем ни малейшего стона не вырвалось из груди ее; видно было только, что она физически ослабла, вследствие чего, не будучи в состоянии стоять, опустилась на стул и, подпершись обеими руками, с напряженным вниманием смотрела на дверь, ожидая чего-то. Приветствие Михеича не коснулось слуха ее. Очевидно, ей было не до него и его цинических выходок, что все ее мысли, все чувства были сосредоточены на этой драме, которой последний акт так неожиданно разрешился без всякого участия с ее стороны.
-- А именно, ваше высокоблагородие, понял я теперь, что мне в полицейской службе настоящее место состоит! -- продолжал между тем Михеич, -- именно, в самой, можно сказать, тонкой чистоте всю штуку обработали... Ваше высокоблагородие! не соблаговолите ли, в счет будущей награды и для поощрения к будущим таковым же подвигам, по крайности стакан водки поднести? Сего числа, имея в виду принятие священнического сана, даже не единыя росинки чрез гортань не пропищал.
-- Имею честь поздравить ваше высокоблагородие с крестничком! -- сказал Маслобойников, входя в комнату, -- кончили все благополучно-с. Даже со всеми онёрами изловили-с. И тот самый здесь, про которого изволили спрашивать... Прикажете позвать-с?
Лицо Маслобойникова сияло; он мял губами гораздо более прежнего, и в голосе его слышались визгливые перекатистые тоны, непременно являющиеся у человека, которого сердце до того переполнено радостию, что начинает там как будто саднить. Мне даже показалось, что он из дому Мавры Кузьмовны сбегал к себе на квартиру и припомадился по случаю столь великого торжества, потому что волосы у него не торчали вихрами, как обыкновенно, а были тщательно приглажены.
-- Стало быть, этот купец и был Тебеньков? -- спросил я.
-- Так и родитель наш тут же схвачен... Господи помилуй! -- вскричала Тебенькова.
-- Точно так-с, моя красавица! и ему тоже бонжур сказали, а в скором времени скажем: мусьё алё призС! [пожалуйте, сударь, в тюрьму! (искаж. франц.)] -- отвечал Маслобойников, притопывая ногой и как-то подло и масляно подмигивая мне одним глазом, -- а что, Мавра Кузьмовна, напрасно, видно, беспокоиться изволили, что Андрюшка у вас жить будет; этаким большим людям, в нашей глухой стороне, по нашим проселкам, не жительство: перед ними большая дорога, сибирская. Эй, Андрюшка! поди, поди сюда, любезный!
Вошел мужчина лет сорока, небольшого роста, с лицом весьма благообразным и украшенным небольшою русою бородкой. Одет он был в длинный сюртук, вроде тех, какие носят в великороссийских городах мещане, занимающиеся приказничеством, и в особенности по питейной части; волоса обстрижены были в кружок, и вообще ни по чему нельзя было заметить в нем ничего обличающего священный сан.
-- Вот-с, имеем честь рекомендовать -- крестничек! каков телец упитанный! Ну, сказывай же его высокоблагородию, как ты в архиереи попал?
Но Андрюшка молчал и без малейшего смущения ясно смотрел в глаза Маслобойникову.
-- Ну, что ж ты, сударь, не отвечаешь? а ты не стыдись! ведь тебя, сударь, и заставить можно разговаривать-то!
Андрюшка по-прежнему молчал упорно.
-- Вот-с, сколь жесток человек сделаться может! -- обратился ко мне Маслобойников, -- верите ли, ваше высокоблагородие, полчаса я его усовещивал, даже рук для него не пожалел-с, и, однако ж, ни одного слова добиться не мог.
-- Ваше благородие! да ушли ты исправника-то! ведь зазорно! -- вступилась Кузьмовна, вставая со стула и подходя ко мне.
Я сам начинал сознавать, что Маслобойников зашел слишком далеко, и дал ему понять, что было бы не лишнее оставить меня одного.
-- Здравствуйте, батюшка Андрей Ларивоныч, -- сказала Мавра Кузьмовна, когда мы остались одни, кланяясь Ларивонову до земли, -- видно, не на радость свиделись!
И крупные слезы полились ручьями из глаз ее.
-- Здравствуйте, сударыня Мавра Кузьмовна! -- отвечал он тихим, но твердым голосом, -- много мы, видно, с вами пожили; пора и на покой, в лоно предвечного Христа спаса нашего, иже первый подъял смерть за человеки.
-- Прости и ты мне, Варвара Михайловна! много я пред тобой согрешила! -- продолжала Кузьмовна, склоняясь перед Тебеньковой, -- ну, видно, нечего делать, растопило у меня сердце... ваше благородие! записывай уж ин поскорей.
С своей стороны Тебенькова тоже повалилась в ноги к Мавре Кузьмовне, и за глухими ее рыданиями нельзя было даже разобрать ее слов.
-- Позовите сюда Тебенькова, -- сказал я, чтоб кончить поскорее эту сцену, которая тяготила меня.
Вошел Тебеньков. То был высокий и с виду очень почтенный старик с окладистою бородой и суровым выражением в лице. При виде его Варвара быстро поднялась и задрожала всем телом.
-- А! ну, здравствуй, доченька! давно ли своих родителей продавать научилась?! -- сказал Тебеньков, улыбаясь холодно, но не без горечи, -- здравствуй и ты, Кузьмовна; пришли, видно, наши часы... что ж, ваше благородие, если спросить желаете, так спрашивайте, а насчет того, чтобы нашу чувствительность растревожить, так это лишнее будет -- так-то-с...
-- Нет, ты прости ее, батюшка Михайло Трофимыч, -- вступилась Мавра Кузьмовна, -- она тоже ведь невольным делом...
-- Бог ее простит, матушка, а мы прощать не можем, потому как это божье дело, а не наше...
-- Батюшка! -- вскрикнула Варвара, почти без чувства падая к ногам его и обнимая их.
Тебеньков задумался и посмотрел на нее; я даже заметил, что в его холодных, суровых глазах блеснул на минуту луч нежности. Но это чувство, осветившее внезапно его существо, столь же внезапно уступило место прежней суровости.
-- Нет, доченька, -- сказал он, вздохнувши и махнув рукой, -- нам теперича об эвтом разговаривать нечего; живи с богом да не поминай нас лихом, потому как мы здешнего света уж не жильцы... что ж, ваше благородие, спрашивать, что ли, будете или прямиком на казенную фатеру прикажете?
И тут началось у меня следствие...
ПЕРВЫЙ ШАГ
Передо мною стоял молодой человек лет двадцати пяти, в потасканном вицмундире. Физиономия его не представляла ничего особенно замечательного; это была одна из тех тусклых, преждевременно пораженных геморроем физиономий, какие довольно часто встречаются в чиновническом мире. Взор его был мутен и как-то болезненно сосредоточен, что не мешало, впрочем, мне, как наблюдателю, подметить в нем что-то вроде робкого поползновения на мольбу, но такую мольбу, которая замечается в глазах барана, кротко испускающего дух под ножом мясника. Молодой человек попался, и попался весьма замечательным образом, со всеми онёрами, как выражаются в провинции. Он сочинил фальшивый указ, с целью получить, за неисполнение его, приличное вознаграждение, но не соблюл притом никаких предосторожностей, которые, поставили бы его поступок вне законных преследований и привели его к тихому пристанищу, выражающемуся в официяльной форме словами: "А за неотысканием виновного в сочинении фальшивого указа, обстоятельство сие предать воле божией, а дело кончить и сдать в архив". Напротив того, тут было все, что могло служить к улике преступника: и поличное, и соучастники, и обдуманный план, и свидетели; одним словом, обвиняемый как бы нарочно все таким образом устроил, чтоб отрезать себе всякий путь к спасению.
Положение следователя, вообще говоря, очень тяжелое положение. Разумеется, оно далеко не может сравниваться ни с положением фельдмаршала во время военной кампании, ни даже с положением гарнизонного прапорщика во время осады Севастополя; но личный взгляд следователя может придать всякому мало-мальски важному делу интерес, не изъятый своего рода тревожных ощущений. Бывают, конечно, следователи, которые смотрят на свои обязанности с тем же спокойствием, с каким смотрят на процесс пищеварения, дыхания и тому подобные фаталистические отправления своего организма; но до такого олимпического равнодушия не всякий может дойти. Иногда случается, что в голову нахлынут тысячи самых разнообразных и даже едва ли не противозаконных соображений и решительно мешают вышеозначенному спокойствию. Шевельнется, например, ни с того ни с сего в сердце совесть, взбунтуется следом за нею рассудок, который начнет, целым рядом самых строгих силлогизмов, доказывать, как дважды два -- четыре, что будь следователь сам на месте обвиняемого, то... и так далее. Ну, и раскиснешь совсем...
А если следствие предстоит серьезное и запутанное, сколько самых разнородных ощущений теснится в сердце, как тонко делается чутье, как настораживаются все чувства! В воздухе пахнет преступлением; миазмы его не дают дышать свободно; руки осязают преступление; слух беспрестанно оскорбляется нестройными звуками вакханалии преступления. Вам чудится преступление в пище, которую вы вкушаете, и в воде, которую вы пьете. Следователь перестает на время быть человеком и принимает все свойства бесплотного существа: способность улетучиваться, проникать и проникаться и т. Д. И сколько страха, сколько ожиданий борется в одно и то же время в его сердце! Поймаю или не поймаю? спрашивает себя следователь каждую минуту своего существования и видимо истаевает на медленном огне отчаянья и надежды. Если же присовокупить к этому, с одной стороны, ожидаемые впереди почести, начальственную признательность и, главное, репутацию отлично хитрого чиновника, в случае удачного ловления, и, с другой стороны, позор и поношение, репутацию "мямли" и "колпака", в случае ловления неудачного, то без труда сделаются понятными те бурные чувства, которых театром становится сердце мало-мальски самолюбивого следователя.
Что касается до меня лично, то преступление производит на мою душу подавляющее действие. Я вообще человек нрава мягкого и скромного, спокойствие своей души ставлю выше всего и ненавижу, когда какое-нибудь обстоятельство назойливо тревожит мою совесть. То ли дело сидеть себе дома, пообедать в приятном обществе и, закурив отличную сигару, беседовать "разумно" с приятелями о предметах, вызывающих на размышление, -- хоть бы о том, как трудны бывают обязанности следователя! Но когда мне, волею или неволею, приходится облечь себя в броню следователя (а это, к истинному моему прискорбию, случается довольно часто), то, сознаюсь откровенно, я делаюсь немного идеалистом. Все эти великолепные соображения об олимпическом равнодушии, о путах, которыми благоразумный следователь обязан окружать обвиняемого, неизвестно куда испаряются, и я остаюсь один на один с своею совестью, один на один с некоторым знакомым мне господином, носящим имя Щедрина и забывающим даже о чине надворного советника, украшающем его безукоризненный формуляр. Странная вещь! когда я имею дело с преступником, кара составляет для меня предмет второстепенной важности, и главное, к чему я стремлюсь, -- это пробуждение в преступнике сознания нарушенного долга, нарушенной правды.
"Mais c'est incroyable! vous divaguez, mon cher!" [Но это невероятно! вы заговариваетесь, дорогой мои! (франц.)] -- слышится мне отвсюду голос его превосходительства, который, несмотря на мои идеалистические наклонности, очень меня любит, потому что я говорю по-французски и довольно удачно полькирую с его дочерью. И однако ж, несмотря на восклицание его превосходительства, результаты моего идеального обращения с обвиненным субъектом оказывались иногда поразительные. Случалось, что закоснелый преступник вдруг зальется слезами и начнет рыдать, но так болезненно, сосредоточенно, что и мне все сердце изорвет своими рыданиями...
Иной, судя по моим действиям и по тем усилиям, которые я употребляю, чтобы овладеть доверием обвиняемого, подумает, что я в некотором роде крошечный Макиавель, а между тем я действительно только идеалист, и больше ничего. Если я прост и ласков, то это потому, что природе не заблагорассудилось наделить меня ничем "внушающим" или, так сказать, юпитеровским; если я вижу человека в самом преступнике, то это потому, что мысль о том, что я сам человек, никак не хочет покинуть мою ограниченную голову. Одним словом, я каюсь, я прошу прощения: я идеалист, я человек негодный, непрактический, но не бейте меня, не режьте меня за это на куски, потому что я в состоянии этим обидеться.
И меня действительно никто не бьет и не режет. Только его превосходительство изредка назовет "размазней" или "мямлей", и то единственно по чувствам отеческого участия к моей служебной карьере. Когда дело зайдет уже слишком далеко, когда я начинаю чересчур "мямлить", его превосходительство призывает меня к себе.
-- Ты, любезный друг, не проповедуй, -- говорит он мне таким голосом, который тщетно усиливается сделать строгим, -- это, братец, безнравственно, потому что тебя, чиновника, ставит в какие-то панибратские отношения с какою-нибудь канальей -- фи!.. А ты проникнись, ты исполни все, что нужно по форме -- ну, и жамкни его, чтоб не забывал он, что между ним и тобою общего только одна случайность, что он каналья, а ты чиновник...
-- Слушаю-с, -- отвечаю я обыкновенно на такое отеческое наставление, и все-таки не могу отстать от несчастной привычки симпатизировать...
Иногда эта добродетельная наклонность вознаграждается самым обидным образом. Трудишься-трудишься иной раз, выбиваешься из сил, симпатизируя и стараясь что-нибудь выведать из преступника -- разумеется, pour son propre bien [ради его собственного блага (франц.)], -- и достигнешь только того, что обвиняемый, не без горькой иронии, к тебе же обращается с следующими простыми словами:
-- Да что ж ты не бьешь меня, ваше благородие?.. а ты бей!.. може, и скажу что-нибудь...
Признаюсь откровенно, слова эти всегда производили на меня действие обуха, внезапно и со всею силой упавшего на мою голову. Я чувствую во всем моем существе какое-то страшное озлобление против преступника, я начинаю сознавать, что вот-вот наступает минута, когда эмпирик возьмет верх над идеалистом, и пойдут в дело кулаки, сии истинные и нелицемерные помощники во всех случаях, касающихся человеческого сердца. И много мне нужно бывает силы воли, чтобы держать руки по швам.
С другой стороны, случалось мне нередко достигать и таких результатов, что, разговаривая и убеждая, зарапортуешься до того, что начнешь уверять обвиненного, что я тут ничего, что я тут так, что я совсем не виноват в том, что мне, а не другому поручили следствие, что я, собственно говоря, его друг, а не гонитель, что если... и остановишься только в то время, когда увидишь вытаращенные на тебя глаза преступника, нисколько не сомневающегося, что следователь или хитрейшая бестия в подлунной, или окончательно спятил с ума.
Все это я счел долгом доложить вам, благосклонный читатель, затем, чтобы показать, как трудно и щекотливо бывает положение следователя, а отчасти и затем, чтобы вы могли видеть, какой я милый молодой человек. А затем приступаю к самому рассказу.
"Я сын приказного. Родитель мой умер, состоя на действительной службе и достигнув, на пятьдесят седьмом году от рождения, чина губернского секретаря. Чины в ту пору очень туго шли, да и подсудности разные препятствовали повышениям. Родитель женился рано, жалованье получал малое, и в скором времени имел целую охапку детей, из которых я был самый младший. В нашем кругу такое уж это обыкновение, что приказные рано женятся; известное дело, мы не то что большие господа -- нам беречь нечего. Мы думаем: коли нас самих царь небесный пропитал, так и детей наших бет хлеба не оставит. Да и то опять, что у нашего брата столько нонче дочерей, да сестер, да своячениц развелось -- надо же и их к месту пристроить, -- вот и заманивает тебя всякий в сети. От бедности или просто с горя, только отец мой запивал шибко: случалось ли нам видеть его в месяц раз или два тверёзым, доподлинно сказать не могу.
Растет наш брат, можно сказать, как крапива растет около забора: поколь солнышко греет -- ну, и ладно; а не пригреет -- худая трава из поля вон. Рос и я таким же порядком лет до двенадцати, а как и что -- хоть что хоть, не припомню. Помню только, что отца иногда на ночь в бесчувствии домой из кабака приводили и что матушка -- царство ей небесное! -- горько на судьбу плакалась. Был у отца милостивец, человек в силе; поэтому только и не выгоняли его из службы. Этот же самый милостивец и меня призрел, и как только стал я приходить в разум, определил на службу под свое начальство.
Примеров хороших перед собой видим мы мало. Много народа служит и пьяного, совсем отчаянного, много и такого, что взятку за самое обыкновенное дело считают. Стало быть, подражать тут некому. А житье наше, осмелюсь вам доложить, самое незавидное: как есть узник. Придешь в присутствие часов с восьми, сидишь до двух; сходишь куда ни на есть перекусить, а в пять часов опять в присутствие, и сиди до одиннадцати. Выходит, в сутки проработаешь этак не меньше двенадцати часов, и все нагнувшись... Как кончится день в глазах рябит, грудь ломит, голова идет кругом -- ну, и выходишь из присутствия, словно пьяный шатаешься. Летом всего тяжелее бывает. Иной раз сходил бы за город, посмотрел бы, что такая за зелень в лугах называется, грудь хоть бы расшатал на вольном воздухе -- и вот нет да и нет! Смотришь иногда: едут начальники, или другие господа, на больших долгушах, едут с самоварами, с корзинами -- и позавидуешь... Или вот возвращаешься ночью домой из присутствия речным берегом, а на той стороне туманы стелются, огоньки горят, паром по реке бежит, сонная рыба в воде заполощется, и все так звонко и чутко отдается в воздухе, -- ну и остановишься тут с бумагами на бережку и самому тебе куда-то шибко хочется.
Выходит, что наш брат приказный как выйдет из своей конуры, так ему словно дико и тесно везде, ровно не про него и свет стоит. Другому все равно: ветерок шумит, трава ли по полю стелется, птица ли поет, а приказному все это будто в диковину, потому как он, окроме своего присутствия да кабака, ничего на свете не знает.
Взяток я не брал, вина тоже не знал. По летам моим, интересных дел в заведываньи у меня не бывало, а к вину тоже наклонности никогда не имел, да и жалованье у нас самое маленькое.
Невеселая это жизнь, а привыкаешь и к ней. Иногда случается, что совсем даже ничего другого не хочется, потому что днем домой придешь -- думаешь, что через три часа опять в присутствие идти нужно; вечером придешь -- думаешь, как бы выспаться, да утром ранёхонько опять в присутствие идти. Выходит, что в голове у тебя ничего, кроме присутствия, нет. Придет это воскресенье, так день-то такой длинный раздлинный тебе покажется; сидишь-сидишь руки склавши -- словно одурь тебя возьмет. По той причине, что мы ни к какому другому делу способности в себе не имеем: все нам кажется, что оно равно не так, не по форме глядит, -- ну, и тоскуешь до понедельника. По этой же самой причине, сколь понимать могу, и пьянства между приказными много бывает; потому как в воскресенье ему девать себя некуда -- вот он и закурил, глядишь.
Сапоги нас очень одолели, ваше высокоблагородие! Народ мы не брезгливый, не неженный. Для нас бы все одно и в лаптишках сбегать, а тут опять начальство не велит, требует, чтоб ты завсегда в своем виде был. Вот хошь бы судья у нас был, так тот прямо тебе говорит: "Мне, говорит, наплевать, как ты там деньги на платье себе достаешь, а только чтоб был ты всегда в своем виде". Ну, и изворачиваешься как-нибудь в ущерб брюху, потому что в долг нашему брату не верят, а взятки взять негде. Иногда, знаете, придешь домой, и все раздумываешь, нет ли где-нибудь сорвать что ни на есть, с тем и уснешь. И какую, кажется, осторожность соблюдаешь! Идешь, да об том только и думаешь, чтоб как-нибудь в грязь не попасть или на камень не наступить, а все никак не убережешься. Большим господам оно, конечно, смешно показывается, что вот приказный с камешка на камешок словно вор пробирается: им это наместо забавы. Потому что им неизвестно, что тут жизнь человеческая, можно сказать, совершается; износи я сегодня сапоги, завтра, может быть, и есть мне нечего будет.
Смотришь иногда, как мужик в базарный день по площади шагает -- и горя ему мало! Идет себе, не думает: только в луже сапоги пополощет и прав. А все оттого, что положение у него на свете есть, что он человек как человек: собой располагать, значит, может! А ты вот словно отребье человеческое, ни об чем другом и помышления не имей, как только об том, как бы на сапогах дырьев не сделать. Уж на что сторож в суде -- и тому житье против нашего не в пример лучше; первое дело, жалованье он получает не меньше, да еще квартиру в сторожСвской имеет, а второе дело, никто с него ничего не требует...
Родитель мой получал жалованье малое, да и я разве немногим против него больше. Сначала посадили меня на целковый в месяц, да и то еще, сказывают, много. Иные на первых порах и совсем ничего не получают. Как я в ту пору жил -- этого и объяснить даже вашему высокоблагородию не умею. Конечно, если б не помнил я завсегда, что христианин называюсь, так, кажется, и не снести бы ни в жизнь этакой нужды. Эти семь месяцев словно во сне у меня прошли, словно я в лихорадке или в другой несносной болезни вылежал. Матушка у меня вскоре померла, а отец не то чтобы мне помочь, а еще у меня норовит, бывало, денег выманить. И встречался-то я с ним мало; разве что идешь домой из присутствия и видишь, что в грязи на дороге родитель в бесчувствии валяется. Однако после семи месяцев пришлось мне уж тошно. Собрался я с духом, пошел к начальнику, доложил ему, что так и так, не только в приличном виде себя содержать, но и пропитаться досыта способов не имею. Начальник был у меня человек добрый; посмотрел на меня, словно в первый раз увидел, не сказал ни слова, а в следующий месяц и назначил пять целковых. Зато я за этого начальника и до сей поры бога молю.
В том суде, где я служил, немало-таки бывало случаев, чтоб попользоваться. Просители бывают: один желает, чтоб просьбицу ему написали, другой -- чтоб секретарю об нем доложили, и за всякую послугу презентуют по силе-возможности. Иной смышленый писец таким манером полтинник в одно утро выработает, ну, и можно ему без нужды прожить. А я никак не мог к эвтому делу приспособиться; робок я, что ли, или сноровки нет, только двугривенные как-то нейдут в мой карман. В других судах кружки такие бывают, что всякий проситель туда приношение свое класть должен: это заведение очень хорошее. Потому как тут никому не завидно, и всякий свою часть зараньше знает. Однако для меня и пяти целковых было бы предовольно, и не попутай меня лукавый, так, кажется, и желать больше не надо. Жизнь в нашем городе очень уж дешева. Об ину пору, особливо зимой, пуд говядины только двадцать копеек стоит; конечно, говядина арестантская -- так она и называется, -- однако все-таки жить можно. За квартиру с едой и с мытьем платил я хозяйке два с полтиной в месяц; разумеется, бламанже не давали, а сыт, впрочем, бывал завсегда. Полтора рубля в месяц откладывал на платье и на сапоги, а рубль оставался на прихоти... Жить можно.
В суде у нас служба хорошая, только запах иногда несноснейший, особливо в канцелярской каморе. Комната маленькая, а набьется туда приказных да просителей -- видимо-невидимо. Иной с похмелья, винищем от него несет, даже сердце воротит: так нехорошо! Выйдешь оттуда на вольный воздух, так словно в тюрьме целый год высидел: глаза от света режет, голова кружится, даже руки-ноги дрожат. Служат всякие люди, а больше пьяница или озорник. Бывают и хорошие люди, только им не род, да и не долговечны они: сейчас какую ни на есть каверзу сочинят или такие подкопы подведут, что беспременно погибнуть следует.
Для примера доложу хошь об одном заседателе. Служил он у нас, и был человек честный и непьющий. Сам губернатор его таким знал, да затем и в суд определил, будто заместо своих глаз. Стало быть, и сила на его стороне была, а все-таки долго не выдержал: угомонили так, что в силу великую и дело-то затушили. Дело это очень любопытное. Случилась в нашем уезде лесная порубка; ну, разумеется, следствие. Порубка была важная, и назначили целую комиссию, а презусом в нее этого заседателя. Подходили к нему со всех сторон, и на деньги и на величанье пробовали -- нейдет, да и все тут. Видят парни, что кругом попались, а надо как-нибудь дело направить. Вот и задумали они председателя таким манером опакостить, чтоб ему следователем оставаться было невозможно. Прочие члены были все на их стороне; приговорили они к себе еще одного мужика богатого и выкинули сообща преехиднейшую штуку. Едет как-то Петр Гаврилыч -- заседатель-то -- мимо села, в котором жил тот мужик; время было вечернее, чаи пить надо -- он и заехал к мужику, а с ним и вся комиссия. Только тот очень рад, не знает, как угостить, чем употчевать дорогих гостей; достает он бутылку шипучего и подает чиновникам в золотых стаканчиках. Выпили они; напились и чаю; только депутат тут один был: все около Петра Гаврилыча лабзится; и душкой-то его называет, и християнскою-то добродетелью, -- целоваться даже лезет. Петр Гаврилыч и поддался; сам стал с ними дружелюбничать да обниматься, а депутат, не будь прост, возьми да и сунь ему, во время обниманья, из своего рукава в задний карман один стаканчик. Хорошо. Сидят они, жуируют; только как надо уж им собираться, входит хозяин и объявляет, что у него один стаканчик пропал. Гости переглянулись между собой, а Петр Гаврилыч, по горячности своей, даже вспылили.
-- Что ж, говорит, разве ты нас, что ли, подозреваешь, подлец ты этакой?
-- Вас не вас, -- отвечает хозяин, -- а воля ваша, стаканчика, окроме ваших благородий, украсти некому.
-- А и точно, -- подхватил тут тот самый депутат, который все обнимался да целовался с Петром Гаврилычем, -- и точно я будто видел, как Петр Гаврилыч в карман чтой-то хоронил.
Стали его тут, ваше высокоблагородие, обыскивать, и, разумеется, стакан в заднем кармане сыскался. Тут же составили акт, а на другой день и пошло от всей комиссии донесение, что так, мол, и так, считают себе за бесчестие производить дело с вором и мошенником. Ну, разумеется, устранили.
Так вот какие иногда подкопы бывают, что и сильный человек не выдержит и предусмотреть ничего не может.
Начальники были у меня всякие. Иной и так себя держал, что и себя не забывает, и совесть тоже знает; а другой только об себе об одном и думает, как бы, то есть, свою потребность во всем удовлетворить. Вот теперь у нас исправник Иван Демьяныч, Живоглотом прозывается, так этот, пожалуй, фальшивую бумажку подкинуть готов, только бы дело ему затеять да ограбить кого ни на есть. А был до него и другого сорта исправник, тот самый, который мне жалованье прибавил, -- этот только и пользы имел, что с откупа, да и то потому, что откуп откуп и есть; с него не взять нельзя.
А иногда и такие бывали, что никакого, то есть, дела не понимает; весь земский суд с ног собьет, бегает, кричит -- а дело все-таки ни на пядь вперед не подвигается. С этаким служить хуже всего, потому что у него просто никакого понятия нет. Вот хоть бы Михайло Трофимыч: "я вас" да "я вас" -- только, бывало, и слышишь от него, а ни научить, ни наставить ничему не может, даже объяснить не в силах, чего ему желается. Пришла к нам однажды в суд девка. Еще было ли ей двенадцать лет, как пришлось ей давать какое-то свидетельское показание при следствии. Обробела, что ли, девочка пли просто из-за своей глупости -- только показала она совсем не то, что по делу следует, и достаточно в этом изобличена. Следствие это, должно полагать, очень важное было, потому что тем временем, пока дело шло, девочке стукнуло уж осьмнадцать лет, и присватал ее за себя человек хороший. На ту пору как быть и решенье вышло такого рода, что девочку, по малолетствию ее, за фальшивое показание подвергнуть наказанию розгами семью ударами. Пришла девка в суд, воет голосом; и раздеваться-то ей не хочется, да и жених отказывается: "Не хочу, говорит, сеченую за себя брать". Известно, к Михайле Трофимычу: нельзя ли, мол, явить божескую милость, от стыда избавить. Михайло Трофимыч -- человек он, нечего сказать, сердечный -- стал на дыбы, зарычал на всю канцелярию: "И такие-то вы, и сякие-то", -- точно мы и в самом деле тут виноваты. Твердит одно: представить в губернское правление, да и все тут.
-- Да помилуйте, Михайло Трофимыч, -- говорит ему секретарь, -- с чем же это сообразно-с? ведь нас за такое неподлежательное представление оштрафуют!
Так куда! затопал ногами и слышать никаких резонов не хочет! И точно, представили. Расписал он это самым наижалостнейшим образом: и про женитьбу-то упомянул, и про стыд девический, и про лета молодые, неопытные -- все тут было; только в настоящую точку, в ту самую, в которую спервоначала бить следовало, попасть забыл: не упомянул, что приговор на предмет двенадцатилетней, а не осьмнадцатилетней девки написан. Ну, и вышло точно так, как секретарь сказывал.
Девку велели высечь, а суду, за обременение начальства вопросами, не представляющими никакой важности, сделали строгое замечание, с внушением, дабы впредь посторонними и до дела не относящимися предметами не увлекался, а поступал бы на точном основании законов. Даже сам Михайло Трофимыч изумился, как оно там складно было написано.
Другой бы -- не Михайло Трофимыч, а примерно хоть Живоглот -- это дело тихим манером бы сделал: девку-то бы не высек, а начальству бы донес, что высек. А Михайло Трофимыч все, знаете, хочет вверх дном перевернуть. Уж сколько его сами родители этой девочки просили, чтоб он из себя не выходил, так нет! Еще счастье девке, что на ту пору Михайла Трофимыча в окружные от нас переманили, а к нам Живоглота прислали. Этот как посмотрел на дело, так даже обругал Михаила Трофимыча: "Экая, говорит, этот Сертуков слякоть!" Разумеется, девку не высекли; только на этот раз уж без приношения не обошлось.
Так вот каково наше житье-бытье. Разумеется, и у нас не без того, чтоб иногда не поразвлечься: тоже собираемся друг у дружки, да нельзя сказать, чтоб весело на этих собраниях было. Первое дело, что все мы друг дружку уж больно близко знаем; второе дело, что нового ничего почесть не случается, следственно, говорить не об чем; а третье дело, капиталов у нас никаких нет, а потому и угощеньев не водится. Вас вот, ваше высокоблагородие, оно, может, и рассмешит, как рассказать вам, каким манером лекарь наш, в холеру, мужичков с одним сифоном лечить ездил, да по двугривенному с души отступного брал, а нас оно и не смешит, потому как мы к эвтому делу уж сызмальства привычны. Во грехе, говорят, человек рожден, ну и мы, значит, в кляузе рождены, кляузой повиты, с кляузой и в гроб пойдем. Значит, для нашего брата что разговором заниматься, что из пустого в порожнее переливать -- все один сюжет. Пожалуй иной и начнет рассказывать что ни на есть, однако, кроме "таперича" да "тово", ничего из него по времени и не вышибешь, потому как у него и в голове ничего другого не обретается. Вот мы, значит, посидим-посидим, помолчим-помолчим, да и разойдемся по домам, будто и бог знает какое веселье у нас было.
Думывал я иногда будто сам про себя, что бы из меня вышло, если б я был, примерно, богат или в чинах больших. И, однако, бьешься иной раз целую ночь думавши, а все ничего не выдумаешь. Не лезет это в голову никакое воображение, да и все тут. Окроме нового виц-мундира да разве чаю в трактире напиться -- ничего другого не сообразишь. Иное время даже зло тебя разберет, что вот и хотенья-то никакого у тебя нет; однако как придет зло, так и уйдет, потому что и сам скорее во сне и в трудах забыться стараешься.
И за всем тем ухитрился-таки я жениться. Видно, уж это в судьбах так записано, что человеку из мученья в мученье произойти нужно, чтобы каким ни на есть концом решиться. Как посужу я теперь, и причины-то никакой жениться не было, потому что нравиться она мне не нравилась, а так, баловство одно.
Жил на одном со мной дворе приказный отставной, такая ли горькая пьяница, что и господи упаси. Жена у него померла, а семья осталась после нее большая, и всё мал мала меньше; старше всех была дочь, да и той вряд ли больше семнадцати лет было. Пропитать ему семью было нечем, потому что если и строчил он кому просьбы или ябеды, так деньги получал за это самые малые, да и те почесть без остачи в кабаке пропивал. Одно слово, в отчаянности жил. Уж на что бывал я в нужде и скорби, а этакой нужды и я не видывал: в доме иной день даже корки черствой не увидишь. А сбирать ходить им тоже не приводилось, потому что каковы ни на есть, а всё же обер-офицерские дети. Приведут, бывало, самого старика из кабака почти мертвого, так он проспится ночью, а на другой день и сидит на крылечке, ровно мутный весь, ни одним суставом не шевелит. Кажется, кабы оставили его, он так бы и закоченел тут не емши: тоска, знаете, на него такая находила, что смотреть даже невозможно. Поглядят-поглядят домашние, что он таким манером и час, и другой, и третий сидит, себя не понимаючи, -- ну, и сведут опять в кабак, чтобы по крайности хошь душа в нем показалась. Там и отойдет за шкаликом.
Дочка у него в дома рукодельничать хаживала. Однако в маленьком городишке это ремесло самое дрянное, потому что у нас и платьев-то носить некому. Выработаешь ли, нет ли, три целковых в месяц -- тут и пей и ешь. Из себя она была разве молода только, а то и звания красоты нет. Я с ней почесть что и не встречался никогда, потому что ни ей, ни мне не до разговоров было.
Однако сижу я однажды, в воскресный день, у окна; смотрю, идет она по двору, остановилась, маленько будто раздумалась, да потом и подошла прямо ко мне.
-- А что, -- говорит, -- Алексей Васильич, нет ли у вас хорошего человека на примете?
-- Нет; а зачем вам?
-- Да так...
-- Бога вы не боитесь, Авдотья Петровна! -- говорю я, -- неужто уж бедность-то в вас и християнство погубила?
-- Хорошо вам, Алексей Васильич, так-ту говорить! Известно, вы без горя живете, а мне, пожалуй, и задавиться -- так в ту же пору; сами, чай, знаете, каково мое житье! Намеднись вон работала-работала на городничиху, целую неделю рук не покладывала, а пришла нонче за расчетом, так "как ты смеешь меня тревожить, мерзавка ты этакая! ты, мол, разве не знаешь, что я всему городу начальница!". Ну, и ушла я с тем... а чем завтра робят-то накормлю?
-- Воля ваша, Авдотья Петровна, -- говорю я, -- а в намеренье вашем я вам не помощник.
На том мы с ней и разошлись. Однако после этого разговора девка у меня вот тут засела. Больно стало мне ее жалко. "Вот, думаю, мы жалуемся на свою участь горькую, а каково ей-то, сироте бесприютной, одной, в слабости женской, себя наблюдать, да и семью призирать!" И стал я, с этой самой поры, все об ней об одной раздумывать, как бы то есть душу невинную от греха избавить. Жениться мне на ней самому? -- нечем жить будет; а между тем и такой еще расчет в голове держу, что вот у меня пять рублей в месяц есть, да она рубля с три выработает, а может, и все пять найдутся -- жить-то и можно. Конечно, семья у ней больно уж велика, ну, да бог не без милости: может, и рассуем куда-нибудь мальчиков.
Надумался я таким манером, и как увидел однажды, что идет она по двору:
-- А что, -- говорю, -- Авдотья Петровна, за меня замуж пойдете?
Так она, ваше высокоблагородие, даже в слезы ударилась и сказать-то ничего не могла.
....................
Пошел я на другой день к начальнику, изложил ему все дело; ну, он хошь и Живоглот прозывается (Живоглот и есть), а моему делу не препятствовал. "С богом, говорит, крапивное семя размножать -- это, значит, отечеству украшение делать". Устроил даже подписку на бедность, и накидали нам в ту пору двугривенными рублей около двадцати. "Да ты, говорит, смотри, на свадьбу весь суд позови".
Ну, и точно, сыграли мы свадьбу как следует. Прекословить начальнику я не осмелился; всех приказных позвал, даже сам приехал. Только по этому случаю и угощенье нужно было такое сделать, чтоб не стыдно гостям было, -- и вышло, ваше высокоблагородие, так, что не только из двадцати-то рублей ничего нам не осталось, а и сам еще я сделался рублей с пяток одолженным.
Стали мы жить все сообща, и нече сказать, на Дуню пожаловаться грех было. Бабеночка она оказалась смирная, работящая, хоть куда. Одни бы мы без нужды прожили, да вот семья-то ее больно нас одолевала, да и родитель Петр Петрович тоже много беспокойствия делал. Ну, и то опять: покуда жена с хозяйством возится, прибирает, обмывает да стряпает, -- работать-то и некогда. Вместо пяти-то рублей, выходит, что и трех словно мы не насчитали, и дошло у нас до того, что есть нечего стало. Это, ваше высокоблагородие, даже не всякому понять возможно, как это ничего-таки есть в доме нет, а между тем это истинная правда. И дошли мы до этой истинной правды очень скоро: не дальше как за другую половину месяца перевалились. Другой подумает, что мы сами этому делу причинны, что вот, дескать, крапивное семя, на первых порах пожуировать захотел, обленился, обабился -- так и того не было! Просто само собой так подошло. Пытал я раздумывать, каким бы манером делу этому пособить, однако ничего не выдумал. Вы, сударь, извольте это понять, как оно прискорбно в такое положение попасть через три недели после женитьбы. Тут бы, кажется, и пожить-то в спокойствии, а у нас хлеба нет.
Однажды иду я из присутствия и думаю про себя: "Господи! не сгубил я ничьей души, не вор я, не сквернослов, служу, кажется, свое дело исполняю -- и вот одолжаюсь помереть с голода". Иду я это, и река тут близко: кажется, махнуть только, и обедать не нужно будет никогда, да вот силы никакой нету; надежда не надежда, а просто, как бы сказать, боюсь, да и все тут, а чего боюсь -- и сам не понимаю. Шел я и мимо кабака -- там тятенька Петр Петрович присутствует; увидел меня в окошко и манит. Я было призадумался, да потом вижу, что ждать-то, видно, нечего, перекрестился и пошел. Тятенька просьбу или акт там какой-то сочиняли; нужно было им свидетеля -- ну, и попал я во свидетели за четвертак. Это бы еще ничего, пожалуй, да вот что не хорошо: получивши четвертак, я на гривенник выпил и тятеньку угостил. Только с непривычки, что ли, у меня словно все кости с первого же шкалика перешибло, и пошел я домой ровно сам не свой.
Вино, ваше высокоблагородие, тем не хорошо, что раз его выпьешь, так и в другой раз беспременно выпить надо, а остановиться никак невозможно, потому что оно словно кругом тебя окружит.
Кутил я таким родом с месяц -- больше; только и трезв был, покуда утром на службе сидишь. Жена, известно, убиваться стала; пошли тут покоры да попреки.
В это самое время производилось у нас в суде дело. То есть дело это и бог знает когда началось, потому что оно, коли так рассудить, и не дело совсем, а просто надзор полицейский. Надзор этот такая, сударь, вещь, что насчет его, можно сказать, все полицейские десятки годов продовольствуются. Жил в нашем уезде мужик, и промышлял он, ваше высокоблагородие, "учительским" ремеслом, или, попросту сказать, старыми книгами торговал и был у прочих крестьян заместо как отца духовного. Мужик он был богатый, и уличить его, следовательно, никаким образом было нельзя, потому что ответ у него завсегда был на ассигнациях. Исправник наш был с ним первейший друг и приятель; ходили даже слухи, что и в торговле мужика часть живоглотовского капитала имеется.
Сижу я однажды в суде, занимаюсь; только подходит ко мне наш столоначальник Коревиков и отзывает меня в сторону.
-- Хочешь, -- говорит, -- хороший куш получить?
Ну, конечно, хорошего куша для-че не получить!
-- Ну, так, -- говорит, -- слушай. Знаешь Селифонта Гаврилова?
-- Как не знать!
-- Следственно, знаешь ты и то, что он под надзором находится, и хоша ему все с рук сходит, однако он ежечасно пребывает в надежде, что возьмут его в тюрьму. Вот и удумали мы с Иваном Кирилычем (тоже столоначальник был), чтобы его, то есть, постращать... Только нам вдвоем это дело соорудить невозможно: первое, потому что он нас обоих довольно знает; а второе, потому что тут Иван Демьянычевым (Живоглотовым) именем действовать нельзя -- не поверит -- а надо ли, нет ли действовать, так уж от имени губернского начальства...
-- А я-то при чем тут буду?
-- А вот слушай. Удумали мы это таким манером, что тебя в уезде никто не знает, ну, и быть тебе, стало быть, заместо губернского чиновника... Мы и указ такой напишем, чтоб ему, то есть, предъявить. А чтоб ему сумненья насчет тебя не было, так и солдата такого приговорили, который будет при тебе вместо рассыльного... Только ты смотри, не обмани нас! это дело на чести делай: что даст -- всё чтобы поровну!
И точно; меня же заставили написать и указ, и дали мне его в руки. А в указе только и изображено было: "Слушали: Рапорт черноборского земского исправника Маремьянкина от 12 ноября 18.. года, за No 6713, и справку. Приказали: Велеть ему, Маремьянкину, для дальнейших действий, ожидать чиновника особых поручений Сабуневича, а вам, господину Сабуневичу, предписать, немедленно прибыв в село Березино, что на Новом (Черноборского уезда), и изловив там оного совратителя Селифонта Гаврилова Щелкоперова, произвести о всех означенных обстоятельствах наистрожайшее следствие, подвергнув, буде встретится надобность, самого Щелкоперова тюремному заключению".
Под вечер пришел ко мне тот самый солдат, которого они рекомендовали, и лошадей тройку привел.
-- А что, -- говорю я, -- служба! как бы не прорваться нам на эвтом деле!
-- Ничего, -- говорит, -- ваше благородие! и не в таких переделах бывали. Только вы посмелее наступайте.
Приехали мы в село поздно, когда там уж и спать полегли. Остановились, как следует, у овинов, чтоб по деревне слуху не было, и вышли из саней. Подходим к дому щелкоперовскому, а там и огня нигде нет; начали стучаться, так насилу голос из избы подали.
-- Кто там? -- кричит из окна работница.
-- Отворяй калитку, -- говорит солдат, -- видишь, губернаторский чиновник за хозяином приехал.
Засветили в доме огня, и вижу я с улицы-то, как они по горницам забегали: известно, прибрать что ни на есть надо. Хозяин же был на этот счет уже нашустрен и знал, за какой причиной в ночную пору чиновник наехал. Морили они нас на морозе с четверть часа; наконец вышел к нам сам хозяин.
-- Добро пожаловать, -- говорит, -- гости дорогие! добро пожаловать; давненько-таки нас посещать не изволили.
И сам, знаете, смеется, точно и взаправду ему смешно, а я уж вижу, что так бы, кажется, и перегрыз он горло, если б только власть его была. Да мне, впрочем, что! пожалуй, внутре-то у себя хоть как хочешь кипятись! Потому что там хочь и мыши у тебя на сердце скребут, а по наружности-то всё свою музыку пой!
-- Ты Щелкоперов? -- спрашиваю я, как мы вошли в горницу.
-- Я, -- говорит, -- Щелкоперов. Да вы, верно, ваше благородие, в первый раз наши места осчастливили, что меня не признаете?
-- Да, -- говорю, -- в первый раз; я, мол, губернский!
-- Так-с; а не позволите ли поспрашать вашу милость, за каким, то есть, предметом в нашу сторону изволили пожаловать?
-- А вот вели поначалу водки да закусить подать, а потом и будем толковать.
Выпил я и закусил. Хозяин, вижу, ходит весь нахмуренный, и уж больно ему, должно быть, невтерпеж приходится, потому что только и дела делает, что из горницы выходит и опять в горницу придет.
-- А не до нас ли, -- говорит, -- ваше благородие, касательство иметь изволите?
-- А что?
-- Да так-с; если уж до нас, так нечем вам понапрасну себя беспокоить, не будет ли такая ваша милость, лучше зараз объявить, какое ваше на этот счет желание...
-- Да желание мое будет большое, потому что и касательство у меня не малое.
-- А как, например-с?
-- Да хоша бы тебя в острог посадить.
Он смешался, даже помертвел весь и словно осина затрясся.
-- Да, -- говорит, -- это точно касательство не малое... И документы, чай, у вашего благородия насчет этого есть?.. Вы меня, старика, не обессудьте, что я в эвтом деле сумнение имею: дело-то оно такое, что к нам словно очень уж близко подходит, да и Иван Демьяныч ничего нас о такой напасти не предуведомляли...
Я подал ему бумагу; он раза с три прочел ее.
-- Больно уж мудрено что-то нонче пишут, -- сказал он, кладя бумагу на стол, -- слушали -- ровно ничего не слушали, а приказали -- ровно с колокольни слетели. Что ж это, ваше благородие, с нами такое будет?
-- А вот поговорим, как бог по душе положит.
-- Да об чем же ты следствие-то производить будешь? Ведь тут ничего не сказано.
-- Это уж мое дело, -- говорю я, -- ты только сказывай, согласен ли ты в острог идти?
-- Что ж, видно, уж господу богу так угодно; откупаться мне, воля ваша, нечем; почему как и денег брать откуда не знаем. Эта штука, надзор, самая хитрая -- это точно! Платишь этта платишь -- ин и впрямь от своих делов отставать приходится. А ты, ваше благородие, много ли получить желаешь?
-- Да сот с пяток больше получить следует.
Он почесался.
-- Ну, уж штука! -- говорит, -- платим, кажется, и Ивану Демьянычу, платим и в стан; нет даже той собаки, которой бы платить не приходилось, -- ну, и мало!
Говорит он это, а сам опять на бумагу смотрит, словно расстаться ему с нею жаль.
-- Да что, -- говорит, -- разве у вас нонче другой советник, что надпись словно тут другая?
-- Нет, -- говорю, -- советник тот же, да это указ-от не подлинный, а копия...
Только сказал я это, должно быть, неестественно, потому что он вдруг сомневаться начал.
-- Как, -- говорит, -- копия! тут вот и скрепы все налицо, а нигде копии не значится.
Да и смотрит сам мне в глаза, а я сижу -- чего уж! ни жив ни мертв.
-- А ведь ты мошенник! -- говорит.
Пал я тут на колени, просил простить: сказывал и про участь свою горькую; однако нет. Взяли они меня и с солдатом, да на тех же лошадях и отправили к Ивану Демьянычу".
ДОРОГА
(Вместо эпилога)
Я еду. Лошади быстро несутся по первому снегу; колокольчик почти не звенит, а словно жужжит от быстроты движения; сплошное облако серебристой пыли подымается от взбрасываемого лошадиными копытами снега, закрывая собою и сани, и пассажиров, и самых лошадей... Красивая картина! Да, это точно, что картина красива, однако не для путника, который имеет несчастие в ней фигюрировать. Эта снежная пыль, которая со стороны кажется серебристым облаком, влечет за собою большие неудобства. Во-первых, она слепит и режет путнику глаза; во-вторых, совершенно лишает его удовольствия открыть рот, что для многих составляет существенную потребность; в-третьих, вообще содержит человека в каком-то насильственном заключении, не дозволяя ему ни распахнуться, ни высморкать нос... Господи! да скоро ли же станция?
Еду я и думаю, что на этой станции у смотрителя жена, должно быть, хорошенькая. Почему я это думаю -- не могу объяснить и сам, но что он женат и что жена у него хорошенькая, это так для меня несомненно, как будто бы я видел ее где-то своими глазами. А смотритель непременно должен быть почтенный старик, у которого жена не столько жена, сколько род дочери, взятой для украшения его одинокого существования...
-- Гриша! ром у нас взят с собою? -- восклицаю я, обуреваемый какою-то канальскою идеей.
-- А когда же мы без рому ездим? -- отвечает Гриша, огрызаясь от холода.
-- И чай есть? -- спрашиваю я Гришу не без тайного намерения побесить его; но он только жмется на облучке и не считает даже за нужное отвечать.
Между тем спускаются на землю сумерки, и сверху начинает падать снег. Снег этот тает на моем лице и образует водные потоки, которые самым неприятным образом ползут мне за галстук. Сверх того, с некоторого времени начинаются ухабы, которые окончательно расстраивают мой дорожный туалет.
-- Стой! -- кричу я ямщику и привстаю в санях, чтобы покрепче запахнуться, -- отчего тут столько ухабов пошло?
-- Да вот черти с хлебом в Богородско тянутся -- всю дорогу с первопута исковеркали! -- отвечает ямщик и, злобно грозя кнутом тянущемуся мимо нас обозу, прибавляет: -- Счастлив ваш бог, шельмы вы экие, что барин остановиться велел: насыпал бы я вам в шею горячих!
Но я уже закутался; колокольчик опять звенит, лошади опять мчатся, кидая ногами целые глыбы снега... Господи! да скоро ли же станция?
"Отчего же, однако, он назвал их шельмами, -- думаю я, -- и чем они провинились перед ним, что хлеб в Богородское везут?" Вопрос этот сильно меня интересует, и я вообще нахожу, что ямщик поступил крайне неосновательно, обругав мужиков. "Почему же он обругал их? -- спрашиваю я себя, -- может быть, думает, что вот он в ямщики от начальства пожалован, так уж, стало быть, в некотором смысле чиновник, а если чиновник, то высший организм, а если высший организм, то имеет полное право отводить рукою все, что ему попадается на дороге: "Ступай, дескать, mon cher, ты в канаву; ты разве не видишь, mon cher, что тут в некотором смысле элефант едет". И так все это тихо, вежливым манером... Но скажите, однако ж, на милость, отчего мужик, простейший мужик, так легко претворяется в чиновника? Оттого ли, что чиновнику веселее жить на свете? Или оттого, что прежде сотворен был чиновник, а потом уже человек, и по этой причине самый инстинкт или, лучше сказать, естество заставляет человека тяготеть в чиновника?"
"That is the question!" [Вот в чем вопрос! (англ. )] -- сказал Гамлет, а Гамлет был отличный человек и не поладил с людьми потому только, что был слишком страстный сторонник правды... вот хоть бы как Перегоренский [См "Прошлые времена", рассказ третий, и "В остроге", посещение второе. (Прим. Салтыкова-Щедрина )]. Хороший был человек Гамлет, а заколол же его Лаэрт! Так и тебя заколют, друг Перегоренский, и кто же заколет! тот самый злодей, которого ты называл рабом лукавым и прелюбодейным в просьбе, адресованной на имя его превосходительства, господина начальника губернии.
И опять-таки ведь это точно нельзя! нельзя, мой любезный, нельзя употреблять такие выражения! Скажи ты это помягче, выразись, так сказать, боком, ну, тогда дело другое! а то -- злодей блудодейный! нельзя, братец, этого, нельзя!
И я сам чувствую, что лицо у меня принимает напряженно-убеждающее выражение, и даже руки расходятся врозь. И внезапно в уме моем проносится просьба, и так отчетливо, так ясно проносится!..
"Сего числа, в десятом часу вечера, -- пишет некий истязуемый субъект, -- пришед в занимаемую мною в городе Черноборске квартиру, крестьянин села Лекминского Иван Савельев Бунчуков, и будучи он мне одолженным двадцать рублей серебром, стали мы разговаривать о разных предметах, как приличествует в мирном и образованном обществе, без всякой азартности и шума. Посреди сего занятия ворвался в мою квартиру с шумом и азартностью городничий Желваков, и мня себя быть в непристойном месте (почему он сие возмнил -- неизвестно), вскричал: "А что вы тут делаете.....? [Точки в подлиннике (Прим. Салтыкова-Щедрина )] На что я с умеренностью и улыбкой отвечал: "Занимаемся беседою, как прилично кротким гражданам". Но господин Желваков, не вняв словам моим, вновь повторил... [Точки в подлиннике. (Прим. Салтыкова-Щедрина )] и обозвал меня при этом ябедником, давая тем чувствовать, якобы я для Ивана Савельева ябеду сочиняю. "А хоша бы и точно я писал жалобу для Ивана Савельева?" -- возразил я, не теряя присутствия духа, но с прежнею кротостью. Тогда господин Желваков, расстегнув на себе, дабы не стесняться в движениях, мундир, начал Ивана Савельева бить из своих рук, окровенив при этом ему все лицо, и, исполнив сию прихоть, сказал мне: "А до тебя я доберусь еще..... ты..." [Точки в подлиннике. (Прим. Салтыкова-Щедрина)] и уехал на именинный бал к стряпчему. А дабы не претерпевать мне и на будущее время подобных со стороны господина городничего наездов, оскорбляющих честь гражданина... Ваше превосходительство! воззрите на стоны несчастного отца, глаза которого полны слез от нанесенного господином Желваковым оскорбления (и сам не вижу, что пишу), и оправдайте сим репутацию благодетельного гения, которую весь обширный Крутогорский край с превеликим удовольствием вам преподносит".
-- Отчего же, братец, ты не пишешь вот таким образом? -- говорю я Перегоренскому, -- у тебя, братец, печень болит -- вот что! а ты лечись, mon cher, лечись!
-- Сторонись! -- кричит навстречу пьяный голос. -- Сам сторонись! -- отвечает мой ямщик, -- не видишь, пошта едет!
-- Сторонись! -- повторяет тот же голос, как-то взвизгивая, -- сторонись! убью!
-- Что такое? что такое? -- спрашиваю я, очнувшись.
-- Да вот писарь волостной едет, ваше благородие, да ишь, шельма, как ревет с пьяных-то глаз!
-- Что ж ты не сторонишься? -- кричу я ямщику встречной повозки.
-- А как тут сторониться будешь? вишь, писарь пьяный за руки держит!
Вышел я из повозки и вижу: точно, человек стоит на коленках в повозке и держит ямщика за руки.
-- Что же ты это делаешь, пьяница? -- спрашиваю я, подходя к повозке.
-- Еду-еду не свищу, а наеду не спущу! -- отвечает писарь сиплым от перепоя голосом, -- сторронись!
-- Послушай, Иван Гарасимыч, -- вступается мой ямщик, -- чиновник ведь едет!.. не хорошо, Иван Гарасимыч! ты над своими куражься, любезный друг, а чиновник, хошь как хошь, все он тебе чиновник...
-- Чиновник! а что мне чиновник! я здесь главный! я здесь что хочу... Сторронись!
-- Сторонись! -- говорю и я своему ямщику скрепя сердце.
-- Ах, вы! -- восклицает невольно Гриша, взглядывая на меня с каким-то сожалением.
И я действительно сконфужен; я чувствую себя совершенно уничтоженным, и, между тем как в ушах моих снова начинает раздаваться скрип полозьев, мне все мерещится: что подумает ямщик? и как это народ такую волю взял?
И вот опять передо мною дорога -- дорога с ее березовыми аллеями, с ее раскинутыми по сторонам равнинами, бог весть куда тянущимися. Как приятно смотрят эти аллеи летом, как роскошно цветут и зеленеют за ними равнины! А теперь сучья на березах поникли и оцепенели; ни ветер, ни стаи тетеревов, с шумом опускающиеся на них, не в состоянии разбудить их. Равнины тоже не дышат; где-где всколышется круговым ветром покрывающий их белый саван, и кажется утомленному путнику, что вот-вот встанет мертвец из-под савана... Грустно.
А грустно потому, что кругом все так тихо, так мертво, что невольно и самому припадает какое-то страстное желание умереть...
Я оставляю Крутогорск окончательно: предо мною растворяются двери новой жизни, той полной жизни, о которой я мечтал, к которой устремлялся всеми силами души своей... И между тем внутри меня совершается странное явление! Я слышу, я чувствую, что какое-то неизъяснимое, тайное горе сосет мое сердце; я чувствую это и припадаю головой к кибитке, а слезы, невольные слезы, так и бегут, так и льются из глаз. Неизвестно почему, неизвестно откуда, в ушах моих раздаются звуки анданте пасторальной сонаты Бетховена. Я огорчен, я подавлен и уничтожен, я положительно не знаю, куда деваться от снедающей меня тоски... Все темные горести, все утраченные надежды, все душевные недуги, все, что так болезненно назревало в моем сердце, все это мгновенно встает передо мною... Мне кажется, что меня тяжело оскорбили, что внезапно погибло все, что я любил, чем был счастлив, что я неожиданно очутился один, совершенно один, отторгнутый от всего живого... "Ужели я в Крутогорске оставил часть самого себя?" -- спрашиваю я себя мысленно. Но текущие по щекам слезы, но вырывающиеся из груди вздохи красноречивее слов отвечают на этот вопрос! Да! не мог же я жить даром столько лет, не мог же не оставить после себя никакого следа! Потому что и бессознательная былинка и та не живет даром, и та своею жизнью, хоть незаметно, но непременно воздействует на окружающую природу... ужели же я ниже, ничтожнее этой былинки?
Или, быть может, в слезах этих высказывается сожаление о напрасно прожитых лучших годах моей жизни? Быть может, ржавчина привычки до того пронизала мое сердце, что я боюсь, я трушу перемены жизни, которая предстоит мне? И в самом деле, что ждет меня впереди? новые борьбы, новые хлопоты, новые искательства! а я так устал уж, так разбит жизнью, как разбита почтовая лошадь ежечасною ездою по каменистой твердой дороге!
И не то чтоб я в самом деле много жил, много изведал, много выстрадал... нет, я чувствую, что в этом отношении я еще свеж и непорочен, как девственница, и между тем сознаю, что душа моя действительно огрубела, а в сердце царствует преступная вялость. "Ужели же я погибну, не живши?" -- спрашиваю я себя, и вдруг чувствую нестерпимый прилив крови в жилах. Мне хочется бежать-бежать, кричать-кричать-кричать... Но вместе с тем я, как выздоравливающий больной, ощущаю, что мне сильный моцион еще не по силам, что одно желание моциона порождает уже расслабление и усталость во всех моих членах. Почему же я устал, однако ж?
-- Оттого, вероятно, что не было давно практики, -- отвечает какой-то недоброжелательный голос.
Но от недостатка ли практики, или от другой какой причины, только я чувствую, что веки мои отяжелевают от сна, что видимый мир покрывается для меня дымкою.
Какая-то странная, бесконечная процессия открывается передо мною, и дикая, нестройная музыка поражает мои уши. Я вглядываюсь пристальнее в лица, участвующие в процессии... ба! да, кажется, я имел удовольствие где-то видеть их, где-то жить с ними! кажется, всё это примадонны и солисты крутогорские!
И точно, впереди всех выступает князь Лев Михайлыч, под руку с княжной Анной Львовной, но как одряхлели, как постарели они! У князя на лице та же приятная улыбка, с которою он истолковывал княжне тайные пружины бюрократического устройства, но на ней лежит уже какой-то грустный оттенок. "Les temps sont bien changes!" [Времена сильно переменились! (франц.)] -- говорит он, поникая головой. Очевидно, что, говоря это, князь думает о каких-то новых требованиях, перед которыми ощущает себя несостоятельным. За ним спешит, семеня ногами, Порфирий Петрович, тоже с лицом, озабоченным горьким сомнением насчет прочности безгрешных доходов, которых он с такою натугой добивался. За ними следуют: Фейер, с своей Каролинхен, Иван Петрович, под руку с заседателем Томилкиным, Ижбурдин, Крестовоздвиженский, Пересечкин, Бобров, Гирбасов, Живновский, и вся эта компания странников моря житейского, с которою читатель познакомился на страницах настоящих очерков... Позади всех бредет в одиночестве бедная Аринушка, безустанно помахивая клюкою... Бедная Аринушка! отдохнули ли твои ноженьки? Дошла ли ты до Иерусалима горнего, пролила ли печаль у светлого престола Спасова?
На всех лицах написана забота и испуг; все чего-то ждут, чего-то трепещут.
-- Порфирий Петрович! куда же вы так поспешаете? -- спрашиваю я.
Но он только машет рукою, как бы давая мне знать: "До тебя ли мне теперь! видишь, какая беда над нами стряслась!" -- и продолжает свой путь.
"Что это значит?" -- спрашиваю я себя.
-- Неужели вы ничего не слыхали? -- говорит мне мой добрый приятель Буеракин, внезапно отделяясь от толпы, -- а еще считаетесь образцовым чиновником!
-- Нет, я не слыхал, не знаю...
-- Разве вы не видите, разве не понимаете, что перед глазами вашими проходит похоронная процессия?
-- Но кого же хоронят? Кого же хоронят? -- спрашиваю я, томимый каким-то тоскливым предчувствием.
-- "Прошлые времена" хоронят! -- отвечает Буеракин торжественно, но в голосе его слышится та же болезненная, праздная ирония, которая и прежде так неприятно действовала на мои нервы...
ПРИМЕЧАНИЯ
М. Е. Салтыков-Щедрин был автором многих романов, повестей, художественно-публицистических и публицистических циклов, литературно-критических статей. В настоящее издание включены наиболее значительные художественные и художественно-публицистические произведения писателя. Тексты печатаются по изданию: М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в двадцати томах. М., "Художественная литература", 1965 -- 1977.
ГУБЕРНСКИЕ ОЧЕРКИ
"Губернские очерки", появлявшиеся в печати отдельными рассказами и сценами в 1856 -- 1857 гг., составили первое крупное произведение Салтыкова. Возникновение замысла "Губернских очерков" и работа над ними относятся ко времени возвращения писателя из Вятки, куда он был сослан Николаем I на службу в 1848 г.
Салтыков вернулся в Петербург в начале 1856 г., незадолго до Парижского мира. Этим миром закончилась Крымская война, в которой "царизм, -- по словам Ф. Энгельса, -- потерпел жалкое крушение" [К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 22, М., Госполитиздат, 1962, стр. 40]. В этих условиях само правительство не считало ни возможным, ни целесообразным сохранение в полной неприкосновенности существующего порядка вещей. На очередь стала ликвидация крепостного права -- коренного социального зла старой России, которое камнем лежало на пути прогрессивного решения всех основных задач, стоявших перед страной.
Начавшийся исторический перелом, с одной стороны, отозвался в жизни русского общества "небывалым отрезвлением", потребностью критически взглянуть на свое прошлое и настоящее, а с другой стороны, вызвал волну оптимистических ожиданий, связанных с появившейся надеждой принять активное участие в "делании" истории.
В этой обстановке и возникли "Губернские очерки" -- одно из этапных произведений русской литературы. "Помним мы появление г-на Щедрина в "Русском вестнике", -- писал в 1861 г. Достоевский. -- О, тогда было такое радостное, полное надежд время! Ведь выбрал же г-н Щедрин минутку, когда явиться" [Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в тридцати томах, т. 18, Л., "Наука", 1978, стр. 60.]. Этой "минуткой" оказалось действительно необыкновенное в русской литературе и общественной жизни двухлетие 1856 -- 1837 гг., когда вместе с "Губернскими очерками" появились "Севастопольские рассказы" Толстого и "Рудин" Тургенева, "Семейная хроника" Аксакова и "Доходное место" Островского, "Переселенцы" Григоровича и "Свадьба Кречинского" Сухово-Кобылина; когда вышла в свет первая книга стихотворений Некрасова и "обожгла -- по слову Огарева -- душу русскому человеку", когда в журнале "Современник" одна за другой печатались статьи Чернышевского, раскрывавшие горизонты нового, революционно-демократического мировоззрения; когда Герцен, уже создавший "Полярную звезду", основал знаменитый "Колокол" и звоном его, как сказал Ленин, нарушил "рабье молчание" в стране; когда, наконец, "обличительная литература", одна из характернейших форм общественной жизни того исторического момента, начинала свой шумный поход по России.
"Губернские очерки" входили в общий поток этих явлений и занимали среди них по силе впечатления на современников одно из первых мест. Это "книга, бесспорно имевшая самый значительный успех в прошлом <1857> году", -- свидетельствовал известный в ту пору журнальный обозреватель Вл. Раф. Зотов [<В. Р. Зотов>. "Очерк истории русской словесности в 1857 г." Статья третья. -- "Иллюстрация. Всемирное обозрение", СПб, 1858, No 23, 12 июня, стр. 367.]. А несколько раньше тот же автор, желая определить положение "Губернских очерков" в историко-литературной перспективе последнего десятилетия, уверенно отвел им "третье почетное место подле двух лучших произведений нашей современной литературы" -- "Мертвых душ" и "Записок охотника" [<В. Р. Зотов> "Губернские очерки". Статья первая. -- "Сын отечества", СПб, 1857, No 19, 12 мая, стр. 450.].
Пройдут годы, Салтыков создаст ряд более глубоких и зрелых произведений. Но в представлении многих читателей-современников его писательская репутация еще долго будет связываться преимущественно с "Губернскими очерками". "Я должен Вам сознаться, -- заключал по этому поводу Салтыков в письме от 25 ноября 1870 г. к А. М. Жемчужникову, -- что публика несколько охладела ко мне, хотя я никак не могу сказать, чтоб я попятился назад после "Губернских очерков". Не считая себя ни руководителем, ни первоклассным писателем, я все-таки пошел несколько вперед против "Губернских очерков", но публика, по-видимому, рассуждает об этом иначе". Действительно, ни одно из последующих произведений Салтыкова "публика" не принимала с таким жгучим интересом, так взволнованно и горячо, как его первую книгу. Но дело тут было, разумеется, не в попятном движении таланта Салтыкова. Дело было в изменившейся общественно-политической обстановке. Исключительность успеха "Губернских очерков" во второй половине 50-х годов определялась в первую очередь не художественными достоинствами произведения, а тем его объективным звучанием, теми его качествами, которые дали Чернышевскому основание не только назвать книгу "прекрасным литературным явлением", но и отнести ее к числу "исторических фактов русской жизни" [Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч. в пятнадцати томах, т. IV, М., ГИХЛ, 1948, стр. 302 (статья 1857 г. о "Губернских очерках"). (Курсив мой. -- С. М.)].
Этими словами Чернышевский очень точно определил общее значение "Губернских очерков". В художественной призме этого произведения отразились глубокие сдвиги русского общественного сознания в годы начинавшегося "переворота" в жизни страны. Объективным историческим содержанием этого "переворота" (в его конечных результатах) была, по словам Ленина, "смена одной формы общества другой -- замена крепостничества капитализмом..." [В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, М., Госполитиздат, 1963. стр. 71 ("О государстве").].
В "Губернских очерках" современники увидели широкую картину жизни той России последних лет крепостного строя, о которой даже представитель монархической идеологии славянофил Хомяков с горечью и негодованием писал в стихотворении по поводу Крымской войны:
В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна.
Чтобы создать эту картину, Салтыкову нужно было, по его словам, "окунуться в болото" дореформенной провинции, пристально всмотреться в ее быт. "Вятка, -- говорил он Л. Ф. Пантелееву, -- имела на меня и благодетельное влияние: она меня сблизила с действительной жизнью и дала много материалов для "Губернских очерков", а ранее я писал вздор" [Сб. "М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников". М, ГИХЛ, 1957, стр. 180-181].
С другой стороны, чтобы творчески переработать впечатления от "безобразий провинциальной жизни", которые, находясь в Вятке, Салтыков, по собственному признанию, "видел <...> но не вдумывался в них, а как-то машинально впитывал их телом" [Там же, стр. 615 (воспоминания Н. А. Белоголового). 523], и создать из этих материалов книгу глубоко аналитическую и вместе с тем обладающую силой широких образных обобщений, -- для этого автору нужно было выработать свой взгляд на современную русскую действительность и найти художественные средства его выражения.
В литературе давно уже показано, как плотно насыщены "Губернские очерки" вятскими наблюдениями и переживаниями автора (хотя далеко не ими одними). С Вяткой, с Вятской и Пермской губерниями связаны "герои" первой книги Салтыкова, бытовые и пейзажные зарисовки в ней, а также ее художественная "топонимика". Так, "Крутогорск" (первоначально "Крутые горы") -- это сама Вятка, "Срывный" -- Сарапул, "Оков" -- Глазов, "Кречетов" -- Орлов, "Черноборск" -- Слободской и т. д. Немало в "Губернских очерках" и подлинных географических названий: губернии Пермская и Казанская, уезды Нолинский, Чердынский, Яранский, реки Кама и Ветлуга, Лупья и Уста, Пильва и Колва, пристани Порубовская и Трушниковская, села Лёнва, Усолье, Богородское, Ухтым, железоделательный завод в Очёре, Свиные горы и т. д.
Вяткой, Вятской губернией и Приуральским краем внушен и собирательный образ русского народа в первой книге Салтыкова. В изображении народа в "Губернских очерках" преобладают черты, характерные для сельского населения северо-восточных губерний: не помещичьи, а государственные, или казенные, крестьяне приверженцы не официальной церкви, а "старой веры" (раскольники), не только "великорусы", но также "инородцы" -- "вотяки" и "зыряне", то есть удмурты и коми. Непосредственно из вятских наблюдений заимствовал Салтыков сюжетные основы для большинства своих "Очерков", за исключением, впрочем, раздела "Талантливые натуры", мало связанного с вятским материалом.
Основа "концепции" русской жизни, художественно развернутой в "Губернских очерках", -- демократизм. Причем это демократизм уже не отвлеченно-гуманистический, как в юношеских повестях 40-х годов, а исторически-конкретный, связанный с крестьянством. Салтыков полон чувства непосредственной любви и сочувствия к многострадальной крестьянской России, чья жизнь преисполнена "болью сердечной", "нуждою сосущею".
Салтыков резко отделяет в "Очерках" трудовой подначальный народ (крестьян, мещан, низших чиновников) как от мира официального, представленного всеми разрядами дореформенной провинциальной администрации, так и от мира "первого сословия". Народ, чиновники и помещики-дворяне -- три главных собирательных образа произведения. Между ними в основном и распределяется пестрая толпа, около трехсот персонажей "Очерков" -- живых людей русской провинции последних лет николаевского царствования.
Отношение Салтыкова к основным группам тогдашнего русского общества и метод их изображения различны. Он не скрывает своих симпатий и антипатий.
Представления писателя о народной жизни еще лишены социально-исторической перспективы и ясности. Они отражают крестьянский демократизм в его начальной стадии. Образ русского народа -- "младенца-великана", еще туго спеленатого свивальниками крепостного права, -- признается Салтыковым пока что "загадочным": многоразличные проявления русской народной жизни -- объятыми "мраком". Необходимо разгадать эту "загадку", рассеять "мрак". Следует узнать сокровенные думы и чаяния русского народа и тем самым выяснить, каковы же его моральные силы, которые могут вывести массы к сознательной и активной исторической деятельности (как просветитель Салтыков придавал этим силам особенное значение). Такова положительная программа Салтыкова в "Губернских очерках". Чтобы осуществить ее, Салтыков сосредоточивает внимание на "исследованию преимущественно духовной стороны народной жизни.
В рассказах "Посещение первое", "Аринушка" (раздел "В остроге"), "Христос воскрес!" и в первых очерках раздела "Богомольцы, странники и проезжие" Салтыков пытается как бы заглянуть в самую душу народа и постараться понять внутренний мир "простого русского человека". В поисках средств проникновения в эту почти не исследованную тогда сферу Салтыков ставит перед собой задачу установить "степень и образ проявления религиозного чувства" и "религиозного сознания" в разных слоях народа. Но в отличие от славянофилов, подсказавших писателю формулировки этой задачи, реальное содержание ее не имело ничего общего с реакционно-монархической и православной идеологией "Святой Руси".
Под религиозно-церковным покровом некоторых исторически сложившихся явлений в жизни русского народа, таких, например, как хождение на богомолье или странничество, Салтыков ищет исконную народную мечту о правде, справедливости, свободе, ищет практических носителей "душевного подвига" во имя этой мечты.
Верный действительности, Салтыков изображает при этом и такие стороны народного характера, как "непрекословность", "незлобивость", "терпение", "покорность".
В первом же "вводном очерке" Салтыков заявляет, что хотя ему и "мил" "общий говор толпы", хотя он и ласкает ему слух "пуще лучшей итальянской арии", он "нередко" слышит в нем "самые странные, самые фальшивые ноты".
Речь идет тут о тяжкой еще непробужденности народных масс, их темноте, гражданской неразвитости и прежде всего пассивности.
Положительная программа в "Очерках", связанная с раскрытием ("исследованием") духовных богатств народного мира и образа родины, определила глубокий лиризм народных и пейзажных страниц книги, -- быть может, самых светлых и задушевных во всем творчестве писателя.
"Да, я люблю тебя, далекий, никем не тронутый край! -- обращается автор к Крутогорску и всей, стоящей за ним, России. -- Мне мил твой простор и простодушие твоих обитателей! И если перо мое нередко коснется таких струн твоего организма, которые издают неприятный и фальшивый звук, то это не от недостатка горячего сочувствия к тебе, а потому собственно, что эти звуки грустно и болезненно отдаются в моей душе".
Эти слова из "Введения" -- слова почти гоголевские даже по языку -- определяют строй всего произведения, в котором ирония и сарказм сосуществуют со стихией лиризма -- лиризма не только обличительного, горького, но и светлого, вызванного глубоким чувством любви к народной России и к родной природе (см. особенно очерки "Введение", "Общая картина", "Отставной солдат Пименов", "Пахомовна", "Скука", "Христос воскрес!" "Аринушка", "Старец", "Дорога").
Демократизм, как основа "концепции" русской жизни, развернутой в "Очерках", определил и отрицательную программу Салтыкова в его первой книге. Целью этой программы было "исследовать" и затем обличить средствами сатиры те "силы" в тогдашней русской жизни, которые "стояли против народа", сковывая тем самым развитие страны.
Коренным социальным злом в жизни русского народа было крепостное право, охраняемое своим государственным стражем -- полицейско-бюрократическим строем николаевского самодержавия.
В "Губернских очерках" относительно мало картин, дающих прямое изображение крестьянско-крепостного быта. При всем том обличительный пафос и основная общественно-политическая тенденция "Губернских очерков" проникнуты антикрепостническим, антидворянским содержанием, отражают борьбу народных масс против вековой кабалы феодального закрепощения.
Обнажая провинциальную изнанку парадной "империи фасадов" Николая I, рисуя всех этих администраторов -- "озорников" и "живоглотов", чиновников -- взяточников и казнокрадов, насильников и клеветников, нелепых и полуидиотичных губернаторов, Салтыков обличал не просто дурных и неспособных людей, одетых в вицмундиры. Своей сатирой он ставил к позорному столбу весь приказно-крепостной строй и порожденное им, по определению Герцена, "гражданское духовенство, священнодействующее в судах и полициях и сосущее кровь народа тысячами ртов, жадных и нечистых" [А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. VIII, М, изд. АН СССР, 1956, стр. 252 ("Былое и думы")].
Не менее суров художественный суд автора "Очерков" и над дворянско-помещичьим классом -- социальной опорой крепостничества.
Тот же Герцен характеризовал людей "благородного российского сословия" как "пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников" да "прекраснодушных" Маниловых, обреченных на вымирание. Салтыков как бы воплощает эти герценовские определения, привлекшие впоследствии внимание Ленина [Там же, т. XVI, стр. 171 ("Концы и начала"). Ср. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, стр. 255 ("Памяти Герцена")], в серию законченных художественных образов или эскизных набросков.
На этом "групповом портрете" "высший класс общества" нигде ни разу не показан в цветении дворянской культуры, как в некоторых произведениях Тургенева и Толстого. Это везде лишь грубая, принуждающая сила или же сила выдохнувшаяся, бесполезная.
Глубоко критическое изображение русского дворянства в "Губернских очерках" положило начало замечательной салтыковской хронике распада правящего сословия старой России. Эту "хронику" писатель вел отныне безотрывно, вплоть до предсмертной "Пошехонской старины".
В атмосфере начавшегося демократического подъема и возбуждения "Губернские очерки" сразу стали центральным литературно-общественным явлением.
Уже в своем отклике на первые четыре "губернских" очерка, только что появившиеся, Чернышевский с присущим ему чутьем общественно-политической обстановки выразил "уверенность" в том, что "публика наградит своим сочувствием автора". По мере выхода очередных книжек "Русского вестника" Чернышевский отмечает в кратких упоминаниях неуклонное нарастание предсказанного им интереса общества к салтыковским рассказам. А статью, специально посвященную "Очеркам", он начинает с признания всеобщности и громадности успеха обличительного произведения Салтыкова ["Современник", 1856, NoNo 10 и 12 ("Заметки о журналах"); 1857, No 3 (отзыв на "Собрание писем царя Алексея Михайловича") и No 6 (статья о "Губернских очерках"). См. Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. III, стр. 704 и 727; т. IV, стр. 254 и 263].
С заявления о том, что "Очерки" "встречены были восторженным одобрением всей русской публики", начинает свою статью о салтыковском произведении и Добролюбов ["Современник", 1857, No 12 (статья о "Губернских очерках"). См. Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в девяти томах, т. 2. Гослитиздат, М.-Л., 1962, стр. 119].
Реформистские надежды в "Губернских очерках" не помешали Чернышевскому и Добролюбову дать произведению высокую оценку с точки зрения основных политических задач, стоявших перед формирующимся лагерем русской революционной демократии. В объективном художественном содержании "Очерков" они увидели не просто обличение "плохих" чиновников с целью замены их "хорошими" и не бытовые мемуары о губернской жизни, а произведение, богатое социальной критикой. Эта глубокая критика и жар негодования, пронизывающий ее, были, в представлении руководителей "Современника", действенным оружием в борьбе против самодержавно-помещичьего строя.
Руководители "Современника" преследовали в своих выступлениях о "Губернских очерках" в первую очередь публицистические цели. Они сделали политические выводы из художественного произведения. И это были выводы революционно-демократические. Сделать же такие выводы оказалось возможным лишь потому, что уже в своей первой книге Салтыков ярко обнаружил позицию писателя, выступающего не только "объяснителем", но и судьей и "направителем" жизни -- в сторону широких демократических идеалов; он показал себя художником-новатором в подходе к изображению общественного зла и "нестроения жизни".
"Он писатель, по преимуществу [скорбный] и негодующий", -- определил Чернышевский образ автора "Очерков". Главное же своеобразие таланта Салтыкова и Чернышевский, и Добролюбов увидели в умении писателя изображать "среду", материальные и духовные условия жизни общества, в его способности угадывать и раскрывать черты социальной психологии в характерах и поведении как отдельных людей, так и целых общественно-политических групп. Именно это своеобразие реализма "Очерков" позволило руководителям "Современника" использовать салтыковские обличения для пропаганды революционно-демократического просветительского тезиса: "Отстраните пагубные обстоятельства, и быстро просветлеет ум человека и облагородится его характер" [Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. IV, стр. 267].
"Губернскими очерками", -- заканчивал Чернышевский свою статью, -- гордится и долго будет гордиться наша литература. В каждом порядочном человеке русской земли Щедрин имеет глубокого почитателя. Честно имя его между лучшими, и полезнейшими, и даровитейшими детьми нашей родины. Он найдет себе многих панегиристов, и всех панегириков достоин он. Как бы ни были высоки те похвалы его таланту и знанию, его честности и проницательности, которыми поспешат прославлять его наши собратия по журналистике, мы вперед говорим, что все эти похвалы не будут превышать достоинств книги, им написанной" [Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, стр. 302.]. С этой оценкой "Губернские очерки" вошли в большую русскую литературу, с этой оценкой они живут в ней до сих пор.
ВВЕДЕНИЕ
Вводный очерк дает общую характеристику города Крутогорска, то есть места и обстановки предстоящего развития литературного действия. Название города -- первоначально не Крутогорск, а Крутые горы -- было, по-видимому, подсказано, с одной стороны, воспоминаниями Салтыкова об известном ему прикамском селе Тихие горы, а с другой -- архитектурным пейзажем Вятки, расположенной на крутом берегу реки. Лирические образы дороги и русской природы возникли под не остывшими еще впечатлениями от тех тысяч верст, которые Салтыков в годы своей подневольной службы проехал на лошадях по просторам семи русских губерний -- Вятской, Пермской, Казанской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской и Тверской. В литературном отношении образ дороги навеян Гоголем.
Стр. 30. В устах всех Петербург представляется чем-то вроде жениха, приходящего в полуночи... -- Использован образ из евангельской притчи о двенадцати девах, ожидающих прихода "жениха" (Христа). Их помыслы всецело подчинены ожиданию этой встречи.
Стр. 31. ...здесь человек доволен и счастлив... все это его, его собственное... -- В Вятской губернии не было помещичьего землевладения. Крестьяне здесь были "государственные"; они не знали личного рабства.
Стр. 33. Сельская расправа -- в данном случае изба или сарай, в котором помещалась сельская расправа -- учрежденный в 1838 г. для каждой сельской общины государственных крестьян и свободных хлебопашцев суд или полиция низшей степени (упразднены в 1858 г.).
Стр. 34. Раздаются аплодисменты... -- то есть пощечины.
ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА
Название разделу дано по содержанию входящих в него "первого" и "второго" рассказов "подьячего". Рассказы о плутнях и темных делах "витязей уездного правосудия" -- лекаря Ивана Петровича, городничего Фейера и исправника Живоглота -- даны в форме воспоминаний о "прежнем времени", и самому рассказчику присвоено архаическое для середины XIX в. наименование "подьячего" -- мелкого канцелярского чиновника, тогда как в действительности речь идет о становом приставе. И та и другая замены были сделаны Салтыковым вследствие оглядки на цензуру. Но читатели "Очерков" относили и эти рассказы не к "прошлому", а к "настоящему" времени.
Стр. 36. Свежо предание, а верится с трудом... -- слова Чацкого из 2-го явл. II действия "Горя от ума" А. С. Грибоедова.
Стр. 41. Свиногорскому... купцу... -- В сорока верстах от Елабуги -- уездного города Вятской губернии -- находилось большое торговое село Свиные горы, на реке Тойма. Салтыков бывал там.
Стр. 50. Цветнички -- распространенные в старообрядческой письменности сборники изречений, назидательных примеров, религиозных легенд, справок, извлеченных из разных источников. Составители таких сборников уподобляли себя трудолюбивой пчеле, собирающей нектар с цветов, откуда и произошло название.
Стр. 60. Выходец -- в данном случае переселенец из Царства Польского.
Стр. 64. ...и истину царям с улыбкой говорил!.. -- не совсем точная цитата из "Памятника" Г. Р. Державина (1743 -- 1816).
МОИ ЗНАКОМЦЫ
"Портреты" и жанровые сцены раздела посвящены сатирическому изображению "крутогорского" быта, обличению "тупой и пошлой среды" провинциально-чиновничьего общества. По свидетельству современников, рассказы именно этого раздела особенно восстановили против писателя многих вятчан.
В некоторых рассказах этого раздела появляются приемы будущей зрелой салтыковской сатиры. Особенно показательна в этом отношении в рассказе "Княжна Анна Львовна" сатирическая классификация чиновников по видам рыб: чиновники-осетры, пискари, щуки... Это уже Салтыков, а не Гоголь, которого автор "Губернских очерков" считал своим учителем в литературе.
Стр. 77. "Уймитесь, волнения страсти" -- романс М. И. Глинки (1804 -- 1857) на слова Н. В. Кукольника (1809 -- 1868).
Рафаил Михайлович Зотов (1795 -- 1871) -- автор помпезного романа "Леонид, или Черты из жизни Наполеона I", который и имеет в виду Живновский.
Стр. 78. "Мистигрис" -- одна из песенок П.-Ж. Беранже (1780 -- 1857) непристойного содержания.
Стр. 80. Крестовики -- серебряные рубли, на оборотной стороне которых был выбит крест из четырех букв П (что обозначало царей Петра I, Петра II, Петра III и Павла I).
Лобанчики -- золотые монеты с изображением головы (лба).
Стр. 86. Одно обстоятельство сильно угрызает его -- это отсутствие белых брюк. -- Белые брюки, с золотыми лампасами, полагались при парадной форме штатским генералам -- действительным статским и тайным советникам.
Стр. 93. ...дал ему злата и проклял его... -- строка (неполная) из стихотворения А. С. Пушкина (1799 -- 1837) "Черная шаль".
Стр. 96. Лакедемонизм -- непреклонность и решительность. Эти свойства характера воспитывали в себе члены господствовавшей в древнем Лакедемоне (Спарте) общины "равных".
Стр. 98. В перспективе ему виднелось местечко! -- Порфирий Петрович мечтал о месте советника питейного отделения, наблюдавшего за акцизно-откупным делом в губернии. Место это считалось самым злачным по части "безгрешных доходов", то есть взяток.
Цинциннат -- один из консулов Древнего Рима. Известен тем, что между своими воинскими подвигами возвращался к любимым им земледельческим занятиям.
Стр. 99. Антигона -- в древнегреческом сказании дочь фиванского царя Эдипа, последовавшая за ним в изгнание; образ, олицетворявший идеальную любовь к родителям и благородное самоотвержение.
Стр. 101. Сафические мысли -- мысли в духе любовной лирики древнегреческой поэтессы Сафо (Сапфо; конец VII -- VI в. до н. э.).
Стр. 102. Пандемониум -- святилище в домах древних римлян.
Стр. 107. ...старухи... внесли эти деньги полностью в акцизно-откупное комиссионерство... -- то есть пропили деньги. Система акцизно-откупного комиссионерства, действовавшая с 1847 до 1861 г., была разработана известным откупщиком В. А. Кокоревым с целью, как он объяснял, "полнее выбирать деньги из капитала, обильно вращающегося в народе".
Стр. 115. Valentine... Benoit -- герои романа Жорж Санд (Аврора Дюдеван; 1804 -- 1876) "Валентина".
Стр. 117. Севинье Мари (1626 -- 1696) -- французская писательница. Ее переписка с дочерью является не только ценным историческим памятником эпохи, но и выдающимся образцом эпистолярного стиля.
Стр. 126. Экилибр -- равновесие (франц.).
Аренда -- здесь в значении денежного пособия, "жаловавшегося" в награду чиновникам на определенное время.
Ревизские сказки -- списки лиц, подлежавших обложению налогами: крестьян, посадских людей и др. Дворяне, духовенство и чиновники не вносились в эти списки.
БОГОМОЛЬЦЫ, СТРАННИКИ И ПРОЕЗЖИЕ
В настоящем разделе Салтыков в своем "исследовании" духовного мира простого русского человека обращается вслед за славянофилами к проявлениям религиозного чувства в различных слоях народа, в частности к паломничеству ("богомолью") и духовным стихам. Но он встречается с этими предметами славянофильских интересов и разысканий, идя по пути своего собственного развития, и поэтому относится к ним принципиально иначе. В отличие от славянофилов, идеализировавших в народном мировоззрении и народной поэзии элементы пассивности, покорности, равнодушия к общественным вопросам, Салтыков воспринимает эти явления как социально отрицательные. Художник-реалист, Салтыков объективен, когда изображает духовную жизнь современного ему простого русского человека в ее исторически сложившихся связях с церковно-религиозными взглядами. Писатель-демократ, он далек от сочувствия этим "темным воззрениям". Но под их покровом он ищет и находит скрытые моральные силы народа -- основной залог его освобождения.
В статье "Сказание о странствии <...> инока Парфения...", писавшейся почти одновременно с "Богомольцами..." (весной 1857 г.), Салтыков с полной отчетливостью указал на причину своего сочувственного интереса к паломничеству и странничеству, как явлениям народного быта. "Причина этому, -- разъяснял Салтыков, -- очень понятна: нам так отрадно встретить горячее и живое убеждение, так радостно остановиться на лице, которое всего себя посвятило служению избранной идее и сделало эту идею подвигом и целью всей жизни, что мы охотно забываем и пространство, разделяющее наши воззрения от воззрения этого лица, и ту совокупность обстоятельств, в которых мы живем и которые сделали воззрения его для нас невозможными..."
Народным представлениям о паломничестве как "душевном подвиге" противопоставлены взгляды верхов общества в лице генеральши Дарьи Михайловны из "Общей картины" и "разбогатевшего купечества" в лице откупщика Хрептюгина. Для них богомолье уже не духовная потребность, а средство развлечься и показать свои богатства.
Корыстные соображения, а не живые, свежие чувства, как у людей из народа, заставляют собираться на богомолье и г-жу Музовкину. Впрочем, мотив этот едва затронут в рассказе, стоящем особняком в разделе. Рассказ интересен не только социально-психологическим "портретом" приживалки, вымогательницы и сутяжницы Музовкиной из деклассированной помещичьей среды. Замечательны в нем по силе лирического и патриотического чувства пейзажные страницы, ставшие хрестоматийными ("Я люблю эту бедную природу..." и т. д.). Натурой для них послужила уже не Вятская, а родная Салтыкову Тверская губерния с протекающей по ней Волгой, упоминаемой в рассказе.
Стр. 137. У меня во пустыни... -- цитата из "Стиха Асафа-царевича". Салтыков приводит ее по тексту той редакции этого известного духовного стиха, которую списал весной 1855 г. в одном из раскольничьих скитов Нижегородской губернии.
Не страши мя, пустыня, превеликиими страхами... -- цитата из той же редакции "Стиха Асафа-царевича".
Стр. 138. Всякиим грешникам // Будет мука разная... -- цитата из "Стиха о Страшном суде".
Народился злой антихрист... -- цитата из "Стиха об антихристе".
Стр. 139. ...добрая гражданка Палагея Ивановна. -- Набросок портрета простой русской "женщины с истинно добрым сердцем" превратился в законченный образ в другом рассказе цикла -- "Христос воскрес!". К сожалению, мы ничего не знаем о живом прототипе этой женщины, значение которой в своем духовном развитии в годы Вятки Салтыков определил так: "Я убежден, что ей я обязан большею частью тех добрых чувств, которые во мне есть..."
Стр. 140. Конечно, мы с вами, мсьё Буеракин, или с вами, мсьё Озорник... -- Отсылка к этим, еще неизвестным читателю персонажам является одним из недосмотров, допущенных Салтыковым при подготовке отдельного издания "Очерков", когда порядок рассказов был совершенно изменен. В журнальной публикации рассказы "Владимир Константиныч Буеракин" и "Озорники" предшествовали разделу "Богомольцы..."
...у воды... -- в глубине сцены, у задней декорации, на которой обычно изображался пейзаж с водой.
Стр. 142. Придет мать -- весна-красна... -- цитата из "Стиха о царевиче Иосафе, входящем в пустыню".
Стр. 143. Разгуляюсь я во пустыни... -- цитата из "Стиха Асафа-царевича".
Стр. 147. ...по смерти князя Чебылкина... -- В следующих далее сценах "Просители" князь Чебылкин жив; он выступает как действующее лицо. Объясняется эта несообразность тем, что названные сцены в журнальной публикации предшествовали очерку "Общая картина".
Стр. 184. ...у Троицы... -- В посаде Троице-Сергиевой лавры под Москвой (ныне Загорск).
ДРАМАТИЧЕСКИЕ СЦЕНЫ И МОНОЛОГИ
В отличие от других разделов "Очерков" материалы настоящей рубрики сгруппированы не по тематическому, а по жанровому признаку. За исключением лирического этюда "Скука", потребовавшего введения в заглавие раздела несколько условного определения этого наброска как "монолога", остальные три произведения являются первыми попытками Салтыкова в драматургической форме. Вскоре эти попытки были продолжены двумя большими сочинениями -- комедиями "Смерть Пазухина" (тесно связанной с "Губернскими очерками") и "Тени".
Открывающие раздел "провинциальные сцены" под названием "Просители" отличаются большой социально-политической остротой. Сатира здесь направлена на высших представителей верховной власти на местах и на самый механизм этой власти -- антинародной, несправедливой, продажной и неумной. В истории салтыковской сатиры полуидиотичный князь Чебылкин -- один из ранних набросков в серии образов, разработанных впоследствии в знаменитых портретных галереях "помпадуров" и "глуповских градоначальников".
В драматических сценах "Выгодная женитьба" Салтыков рисует быт бедного чиновничества. Дурные поступки людей этой среды показываются писателем как неизбежное следствие их материальной и правовой необеспеченности. Именно здесь Салтыкову удалось, по словам Добролюбова, "заглянуть в душу этих чиновников -- злодеев и взяточников, да посмотреть на те отношения, в каких проходит их жизнь" [Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в девяти томах, т. 7, стр. 244 (статья "Забитые люди", 1861)].
В другом драматическом наброске "Что такое коммерция?" Салтыков впервые обращается к изображению купечества. При этом писателя интересует не столько бытовой уклад "торгового сословия" (чему уделял так много внимания Островский), сколько его социальная биография. В небольшом этюде Салтыкову удается показать классовую слабость этого отряда российской буржуазии, -- слабость, обусловленную неразвитостью общественно-экономических отношений в стране (полная зависимость купеческих дел от всевластия, хищничества и произвола чиновников).
Лирический "монолог" "Скука" представляет существенный интерес для характеристики взглядов и настроений Салтыкова в годы вятской ссылки. На это значение произведения указал сам писатель в своей автобиографической заметке 1858 г. В знаменитых инвективах этого "монолога" видна борьба, которую вел Салтыков за то, чтобы в идейном одиночестве ссылки удержаться на достигнутых в Петербурге 40-х годов позициях передового человека -- утопического социалиста и демократа, ученика Белинского и Петрашевского.
Стр. 198. Стланец -- лен.
Стр. 224. Собой пример он должен дать... -- строка из стихотворения Г. Р. Державина "Вельможа".
Шавера -- сплетник.
Стр. 242. Колотырники -- те, кто колотырничает, то есть сколачивает копейку, скопидомничает, кулачит.
Стр. 255. Нарохтиться -- собираться сделать что-то.
Стр. 261. Яков Петрович, тот самый, который... -- Характеристика Якова Петровича развернута в рассказе "Посещение первое" (раздел "В остроге"), который в журнальной публикации "Русского вестника" предшествовал монологу "Скука".
Стр. 262. -- Загляните в скрижали истории, -- говаривал мне воспитатель мой, студент т-ской семинарии, -- ...и вы убедитесь, что тот только народ благоденствует и процветает, который не уносится далеко... "О, какой я богатый, довольный и благоденствующий народ!" -- Эти строки автобиографичны. Речь тут идет о студенте Троице-Сергиевой духовной академии М. П. Салмине. Он занимался с мальчиком Салтыковым в 1836 -- 1837 гг.
Стр. 267. Помню я и долгие зимние вечера, и наши дружеские, скромные беседы... Помню я и тебя, многолюбимый и незабвенный друг и учитель наш! Где ты теперь? какая железная рука сковала твои уста, из которых лились на нас слова любви и упования? -- Эти автобиографические строки относятся к участию юного Салтыкова в жизни созданного Петрашевским кружка русских социалистов-утопистов. Салтыков посещал собрания "петрашевцев" в Петербурге на раннем этапе существования кружка, в 1845 -- 1847 гг. После ареста в 1849 г. Петрашевский был ссыльнокаторжным, а с 1856 г. и до своей смерти в 1866 г. -- ссыльнопоселенцем в Сибири.
ПРАЗДНИКИ
Судя по первоначальному названию раздела -- "Народные праздники", -- можно предполагать, что у Салтыкова было намерение нарисовать серию картин праздников не столько церковного, сколько народного календаря, основанных на поверьях и обычаях (масленица, вешний Егорий, Ильин день, местный вятский праздник отплытия великорецкой иконы св. Николая, частично описанный в очерке "Общая картина" и т. д.). Но этот план, если он существовал, остался неразработанным. Писатель ограничился зарисовками Рождества и Пасхи в Крутогорске, придав этим наброскам в значительной мере автобиографический характер. В этой связи следует заметить, что Салтыков, атеист по своему мировоззрению, до конца дней хранил благодарную память о поэзии рождественских и пасхальных праздников своего деревенского детства.
Стр. 270. Гриша вечно сапоги чистит... -- Зарисовка Гриши в этом рассказе и в эпилоге "Дорога" сделана с натуры. Григорием звали слугу Салтыкова из крепостных людей, присланного в Вятку матерью писателя. Он остался служить у Салтыкова и после того, как получил "вольную".
Стр. 272. "На заре ты ее не буди..." -- романс А. Е. Варламова (1801 -- 1848) на слова А. А. Фета (1820 -- 1892).
Стр. 273. ...герцог Герольштейн... Fleur-de-Marie... -- герои романа Эжена Сю (1804 -- 1857) "Парижские тайны".
Шуринеры -- люди преступного мира.
...напоминают тех полногрудых нимф, о которых говорит Гоголь, описывая общую залу провинцияльной гостиницы. -- В первой главе "Мертвых душ" читаем: "...на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал".
Стр. 284. ...мой искреннейший друг, Василий Николаич Проймин... -- Салтыков вспоминает о своем вятском друге, враче Николае Васильевиче Ионине, и о его семье.
ЮРОДИВЫЕ
"Юродивыми", то есть людьми, лишенными разума, психологии и норм поведения здорового человека, Салтыков называет царских чиновников-администраторов в их отношениях к народу. Своеобразие каждого из трех "портретов" "юродивых" определяется какою-то одною наиболее показательной чертою. Взятые же вместе, эти зарисовки образуют как бы "групповой портрет" типических представителей административно-полицейской машины самодержавия.
В первом рассказе "Неумелые", написанном в начале работы над "Очерками", еще звучат реформистские ноты. Резкая критика предельно централизованной в части, превращающей своих агентов в чиновников, чуждых населению, не знающих его нужд и не умеющих удовлетворять их, завершается в "Неумелых" положительной альтернативой. В заключительной части рассказа Салтыков указывает словами одного из действующих лиц пути возможного прогресса государственной "машины". Он усматривает эти пути в замене централизации противоположным принципом децентрализации, при котором работа по изучению и удовлетворению народных нужд могла бы быть передана от чиновников центральной власти "земству", то есть выборным представителям населения данной местности.
Большой обличительной силы исполнен рассказ "Озорники" -- едва ли не острейшая политическая сатира в "Очерках", написанная уже в характерной для зрелого Салтыкова манере. Нужно было очень ненавидеть самую суть административной машины самодержавной власти, чтобы дать ее олицетворение в жестком, внушающем и теперь живое отвращение, портрете "просвещенного" бюрократа, не служащего народу и государству, но "озорующему" над ними. В образе этого человека, "гнуснее" которого, по мнению Чернышевского, нет во всех "Очерках", изображен идеолог и проводник глубоко враждебного Салтыкову принципа "чистой творческой администрации, самой себе довлеющей и стремящейся проникнуть все жизненные силы государства".
Если в "Озорниках" Салтыков дал первое в его творчестве глубокое обобщение системы взглядов, идеологии царской администрации, то в рассказе "Надорванные" дано такое же обобщение психологии ее непосредственных практических агентов-исполнителей. В образе одного из них, следователя Филоверитова, -- чиновника-автомата и чиновника-служебной собаки, как аттестует он сам себя, показано, что доктрина самовластия, воспитывавшая сознание своих слуг-чиновников в духе строжайшего авторитаризма и формализма, искажала, "надрывала" нормальную психику человека.
Стр. 285. Так как по делу было мною прикосновенных из лиц городского сословия, то командирован был ко мне депутатом мещанин Голенков, служивший ратманом в местном магистрате. -- Учрежденные в XVIII в. и просуществовавшие до судебной реформы 1866 г. городовые магистраты состояли из выборных бургомистров и ратманов. По своей фактической роли магистраты были учреждениями чисто судебными. Юрисдикция их распространялась на торгово-промышленное население города -- на купцов и мещан.
...придерживался старины... -- то есть принадлежал к старообрядцам.
Стр. 295. Зенон -- основатель стоической философии в древних Афинах; отличался простотой жизни и умеренностью материальных требований.
Стр. 296. Вот им дали сходы, дали свой суд... -- В 1838 г., вслед за образованием министерства государственных имуществ, для государственных крестьян и так называемых свободных хлебопашцев были учреждены сельские общины (самоуправляющиеся хозяйственно-административные единицы, составлявшие часть волости). Для каждой общины были установлены: а) сельское начальство -- для управления обществом, б) сельский сход -- для общественных дел и в) сельская расправа -- для судебных дел. На помещичье-крепостных крестьян эти "институты" сельского управления и самоуправления не распространялись.
Стр. 299. Говорят также некоторые любители просвещения... -- Ретроградные рассуждения "озорника" о "грамотности" и "просвещении" являются памфлетным откликом Салтыкова на нашумевший "поход" В.И. Даля против распространения среди народа "грамотности без просвещения". Первая из ряда статей Даля на эту тему, которая и имеется здесь в виду, появилась в третьей книжке славянофильского журнала "Русская беседа" за 1856 г. ("Против грамотности или по поводу ее").
Стр. 301. И после этого говорят и волнуются, что чиновники взятки берут! Один какой-то шальной господин посулил даже гаркнуть об этом на всю Россию. -- Насмешка над шумевшей в сезон 1856 -- 1857 гг. пьесой гр. В. А. Соллогуба (1813 -- 1882) "Чиновник". Герой ее -- идеальный чиновник Надимов -- провозглашал, что "надо исправиться, надо крикнуть на всю Россию, что пришла пора, и действительно она пришла, искоренить зло с корнями".
ТАЛАНТЛИВЫЕ НАТУРЫ
Собранные в этом разделе зарисовки "талантливых натур" или "провинциальных Печориных" современная Салтыкову, да и позднейшая критика склонна была рассматривать в качестве вариаций на хорошо известную в литературе тему "лишних людей". В действительности, однако, связь, существующая между этими двумя группами типических образов современников "сороковых" и "пятидесятых" годов, совсем иная. Герценовский Бельтов, тургеневский Рудин и другие "лишние люди" 40-х годов воплощали образ передового современника. "Лишние люди" конца 50-х годов, когда в духовной жизни страны начался период "бури и натиска" разночинцев-плебеев, когда центральную роль стали играть "практика", а не "умозрение", "политика", а не "эстетика", " материализм", а не "идеализм", воспринимались демократическим лагерем как вредный анахронизм. Для Салтыкова современный ему "лишний человек" стал объектом резкой критики и отрицания.
Изображением "лишнего человека" в "Талантливых натурах" Салтыков начал свой художественный суд писателя-демократа над исчерпанным до дна и утратившим -- в новых исторических условиях -- свое прогрессивное значение, а значит, и право на существование, образом, идеализировавшим элементы праздности, мечтательности и пассивности в общественном поведении.
В начале рассказа "Корепанов" -- начало это является, по существу, вступлением ко всему разделу -- Салтыков дает такую классификацию "талантливых натур": "Одни из них занимаются тем, что ходят в халате по комнате и от нечего делать посвистывают <это помещик Буеракин>; другие проникаются желчью и делаются губернскими Мефистофелями <это образованный -- значит, из дворян -- чиновник Корепанов>; третьи барышничают лошадьми или передергивают в карты <это деклассированный, опустившийся до уголовщины дворянин Горехвастов>; четвертые выпивают огромное количество водки; пятые переваривают на досуге свое прошедшее и с горя протестуют против настоящего <эти два признака введены в характеристику помещика Лузгина>". Таким образом, все обозначенные во вступлении "сорта и виды" "провинциальных Печориных" нашли воплощение в главных действующих лицах четырех рассказов раздела.
Салтыковская критика "талантливых натур" -- критика, направленная против всего дворянского класса, разоблачавшая несостоятельность надежд на его образованную часть, как на возможную силу общественного прогресса, -- привлекла пристальное и глубоко сочувственное внимание Чернышевского и Добролюбова. В своих статьях об "Очерках" первый из них дал развернутый анализ образа Буеракина, второй -- трех остальных образов.
Стр. 312. ...не обладая живыми... началами, необходимыми для примирения... -- Речь тут идет, разумеется, не о примирении с существовавшей социальной действительностью (в смысле ее принятия), а о средствах и способах устранения ее противоречий, борьбы с ее дисгармоничностью.
Стр. 314. Семен Семеныч Фурначев. -- Этот бегло зарисованный персонаж вскоре превратился в одно из главных действующих лиц пьесы Салтыкова "Смерть Пазухина" (1857). По первоначальному плану пьеса должна была входить в цикл "Губернских очерков".
Стр. 320. Лузгин. -- Для создания этой "артистической" разновидности "талантливой натуры" Салтыков воспользовался некоторыми чертами личности товарища своих детских и школьных лет Сергея Андреевича Юрьева (1821 -- 1888) -- известного впоследствии литературно-театрального деятеля.
...незабвенная С***. -- Рассказчик вспоминает о выдающейся балерине Екатерине Александровне Санковской (1816 -- 1878). Демократически настроенная молодежь 40-х годов усматривала в ней, по свидетельству Салтыкова в "Пошехонской старине", "глашатая добра, истины и красоты", относила ее к "пластическим разъяснителям" "нового слова".
Стр. 339. Немврод -- библейский образ неутомимого и отважного преследователя "беззаконий" -- "ловца перед господом".
Стр. 347. Знать, забило сердечко тревогу! -- строка из стихотворения Некрасова "Тройка".
Стр. 365. Ману-текел-фарес (обычная транскрипция первого слова "мене") -- предсказание, которое, согласно библейской легенде, Валтасар, царь Вавилонский, получил о разделе своего царства и собственной гибели. Таинственные слова эти, значение которых было разгадано пророком Даниилом, начертила на стене перед пирующим царем невидимая рука.
Стр. 367. Момо -- слова.
В ОСТРОГЕ
В ведении Салтыкова, как управляющего вторым отделением Губернского правления в Вятке, находилась забота о хозяйственном обеспечении тюрем и этапов губернии. Сверх того он был производителем дел Комитета о рабочем и смирительном домах. Так назывались предусмотренные законом разные формы и места лишения свободы за уголовные преступления.
Непосредственное соприкосновение с "темным и безотрадным миром" арестантских камер и железных засовов, встречи и беседы с заключенными дали Салтыкову не только запас внешних впечатлений и сюжетных материалов для изображения тюрьмы и ее обитателей -- едва ли не первого в русской литературе ("Записки из Мертвого дома" Ф. М. Достоевского стали печататься с 1860 г.). Личное общение с "царством острожного горя" способствовало укреплению Салтыкова в том его взгляде, который он сформулировал в одной из своих записок в Вятке: "Борьбу надлежит вести не столько с преступлением и преступниками, сколько с обстоятельствами, их вызывающими". Мысль эта оказалась чрезвычайно плодотворной для него как для писателя. Примененная к широкой сфере общественных пороков самодержавно-крепостнического строя, она стала одной из основных идей "Губернских очерков". В непосредственном же изображении тюрьмы и ее обитателей эта мысль привела к резкому протесту против существовавших форм и методов уголовного наказания.
В "острожных рассказах" Салтыков продолжает свое "исследование" внутреннего мира простого русского человека. В образе людей из народа -- и крестьянского парня, пережившего глубокую личную драму, и мужика-бедняка, пошедшего на преступление из-за ничтожной суммы, необходимой для оплаты подати, и многострадальной крепостной Аринушки -- он показывает их прекрасные природные качества. В образах же арестантов из "чиновной породы", а также мещан и дворян представлены, напротив того, глубоко испорченные люди. Салтыков полностью лишает их своего авторского сочувствия.
Стр. 373 -- 374. Часть текста со слов: "Нам слышатся тюрьмы голоса..." и кончая словами "и ее радости и наслаждения" не была допущена к печати в 1856 -- 1857 гг. и появилась впервые в 3-м отдельном издании "Очерков" (1864). Затронутая здесь тема была развита Достоевским, писавшим в "Записках Мертвого дома" о его обитателях из народа: "Погибли могучие силы, погибли незаконно, безвозвратно. А кто виноват? То-то, кто виноват?"
Стр. 375. Хвецы. -- По разъяснению Салтыкова, употребленное им слово означает "и шарлатана, и пройдоху, и подлеца, и понятного человека, и человека себе на уме и пр." ("М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников", стр. 432).
Стр. 385. Форменный сюртук обладал довольно замечательною физиономией. -- Внешность одного из арестантов "чиновной породы", нарисованная, несомненно, с натуры, настолько поразила Салтыкова, что послужила впоследствии основой для знаменитого "портрета" Угрюм-Бурчеева в "Истории одного города".
Дерновы... Гирбасовы. -- См. о них в рассказах "Выгодная женитьба" и "Княжна Анна Львовна".
Стр. 396. "Аринушка" -- первое произведение, в котором Салтыков обратился к фольклорным мотивам и форме для изображения духовной жизни народа.
Стр. 400. Неочеслив -- нетерпелив.
КАЗУСНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Введение в заглавие раздела слова, относящегося к судебно-правовому понятию "казус" (случай), связано с тем, что материалы всех трех рассказов раздела заимствованы из дел следственных дознаний. Такие дознания Салтыкову приходилось производить в годы вятской службы. Самым большим среди них было расследование по делу о раскольниках Ситникове, Смагине и др., которое Салтыков производил в 1854 -- 1855 гг. В результате возникло огромное следственное делопроизводство, занявшее около 2500 листов большого формата.
Отношение Салтыкова к расколу было в это время отрицательным. Определялось оно идейной позицией писателя -- позицией просветителя и утопического социалиста. В религиозной догматике старообрядцев, а также в таких формах их социального протеста, как уход от "мирской жизни" в скиты, он усматривал глубоко реакционное начало. "Мирской" же быт раскольников, с его культурной отсталостью, семейным и религиозным деспотизмом, "диким особничеством" и легко возникающей отсюда уголовщиной, был для него подлинно "темным царством".
Впоследствии, в начале 60-х годов, Салтыков изменил свое отношение к преследованиям раскольников властями, а в самом расколе стал более пристально интересоваться его социальной, а не религиозно-бытовой стороной. Но принципиального своего отношения к расколу Салтыков не изменил и остался совершенно чужд той его идеализации как политической оппозиционной силы, которая возникла в 60-е годы в некоторых демократических и революционных кругах (Щапов, Кельсиев, Огарев и др.).
Третий рассказ раздела -- "Первый шаг" -- связан с расколом лишь биографией одного из действующих лиц, богатого мужика, "промышлявшего" старообрядческими книгами. Интерес рассказа в изображении не раскольничьего, а чиновничьего быта и психологии, взятых в их социальных низах, -- там, где власть грозного "порядка вещей" над человеческой душой сказывается особенно сурово и ясно. Несомненно, именно этот рассказ -- один из лучших социальных этюдов в книге -- прежде всего имел в виду Добролюбов, когда писал: "Никто, кажется, исключая г. Щедрина, не вздумал заглянуть в душу этих чиновников -- злодеев и взяточников -- да посмотреть на те отношения, в каких проходит их жизнь. Никто не приступил к рассказу об их подвигах с простою мыслью: "Бедный человек! Зачем же ты крадешь и грабишь? Ведь не родился же ты вором и грабителем, ведь не из особого же племени вышло, в самом деле, это так называемое "крапивное семя"? Только у г. Щедрина и находим мы по местам подобные запросы [Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в девяти томах, т. 7, стр. 244 (статья "Забитые люди", 1861)]
Стр. 413. Андрей Денисов -- один из главных вождей раскола-старообрядчества в первой половине XVIII в.
Стр. 424. К ночи... к полдню... -- к северу... к югу.
Стр. 436. Город С*** -- Сарапул.
Стр. 437. Кма -- много.
Стр. 462. ...и по крюкам знает, и демественному обучался... -- Крюки -- знаки старинного русского нотного письма; демественное пение -- многоголосное культовое пение, принятое у старообрядцев.
Стр. 478. Дока -- пока, покуда.
ДОРОГА
Эпилог "Очерков" во многом автобиографичен. В нем отразились впечатления Салтыкова от его большого зимнего путешествия из Вятки на родину, после того как в конце 1855 г. он получил от нового царя Александра II разрешение "проживать и служить, где пожелает". Здесь же лирически отразились раздумья и переживания писателя на пороге растворявшихся перед ним "дверей новой жизни".
С. Макашин
СОДЕРЖАНИЕ
С. Макашин. "Сатиры смелый властелин"
ГУБЕРНСКИЕ ОЧЕРКИ
Введение
ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА
Первый рассказ подьячего
Второй рассказ подьячего
Неприятное посещение
МОИ ЗНАКОМЦЫ
Обманутый подпоручик
Порфирий Петрович
Княжна Анна Львовна
Приятное семейство
БОГОМОЛЬЦЫ, СТРАННИКИ И ПРОЕЗЖИЕ
Общая картина
Отставной солдат Пименов
Пахомовна
Хрептюгин и его семейство
Госпожа Музовкина
ДРАМАТИЧЕСКИЕ СЦЕНЫ И МОНОЛОГИ
Просители
Выгодная женитьба
Что такое коммерция?
Скука
ПРАЗДНИКИ
Елка
"Христос воскрес!"
ЮРОДИВЫЕ
Неумелые
Озорники
Надорванные
ТАЛАНТЛИВЫЕ НАТУРЫ
Корепанов
Лузгин
Владимир Константиныч Буеракин
Горехвастов
В ОСТРОГЕ
Посещение первое
Посещение второе
Аринушка
КАЗУСНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Старец
Матушка Мавра Кузьмовна
Первый шаг
Дорога (Вместо эпилога)
Примечания
Михаил Евграфович САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Собрание сочинений в десяти томах
Том I
Редактор тома К. И. Тюнькин
Оформление художника Ю. А. Боярского
Технический редактор В. Н. Веселовская
|